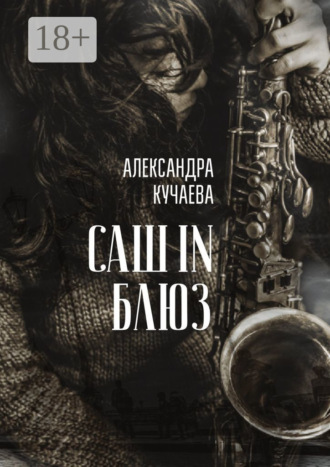
Полная версия
Саш in блюз. Сборник трогательных и драматичных воспоминаний
Демонстрация
Каким долгожданным это слово было для меня в детстве. 7 ноября – праздник, день Великой Октябрьской социалистической революции.
Во всех школах были разбиты пункты голосования за депутатов районов города, почему-то 7 ноября иногда совпадало и с днем выборов. В фойе школы вы могли сделать два очень полезных и важных дела: проголосовать за полюбившегося депутата и откушать сладостей, которые продавали там же. То есть для ребёнка десяти-двенадцати лет 7 ноября был ещё и гастрономическим праздником. Отчётливо помню зелёный тархун, свежий хворост, безе и молочный коктейль.
Голосовали мы с утра, действо начиналось в 10.00. Мой славный дед был депутатом одного из районов города и управляющим строительным трестом; шествие нашей колонны из ста человек с транспарантами и шарами начиналось от улицы Лево-Булачной и продолжалось до площади Свободы. Дед – во главе колонны.
Ребёнком я была подвижным, и мне нравились все идеи хулиганского содержания, например прокалывание булавками шаров трудящихся и забрызгивание жижей из снега и грязи впереди идущих демонстрантов. Так как большинство впереди идущих были в праздничном подпитии, хулиганских выходок наших никто не замечал.
А мы, ватага девчонок и мальчишек-пакостников, счастливые и румяные, возвращались домой, где нас неизменно ждал фильм «Неуловимые мстители» режиссёра Эдмонда Кеосаяна и праздничный обед в честь Великого Октября.
«Артек» в сосновом лесу
Летние лагеря для детей – лучший отдых для матери.
Элизабет КлингерМоя соседка, на четыре года старше, съездив в международный пионерский лагерь «Артек», с упоением рассказывала, как там было умопомрачительно интересно. Впечатлившись, решила и я поехать в пионерский лагерь, правда, не в «Артек», а в «Сосновый бор», который был гораздо ближе Крыма, в родном Татарстане. Путёвки в «Сосновый бор» нам с одноклассницей были куплены, отправление утром в один из жарких июльских дней. Провожала меня мама, которая была занята ожиданием появления на свет моего младшего брата.
В лагерь прибыли к полудню; разместили нас в деревянном доме, в каждой из комнат которого проживало по двадцать детей, мальчишек или девчонок. Лагерь находился, как и следовало из названия, в сосновом лесу совсем рядом с Волгой.
Вскоре я узнала, что здесь существует РАСПОРЯДОК ДНЯ. Очень жёсткий, на взгляд девочки, привыкшей к вольготной жизни в городе или у бабушки на даче. Лагерный режим очень меня смущал. Особенно шокировала его утренняя часть: подъём в 7 утра, 7.00—7.15 – утренние процедуры, 7.30 – построение на общей линейке и гимнастика, 8.00 – завтрак. Завтрак заканчивался в 8.15 утра, и с этого времени пионерам и комсомольцам непонятно чем следовало заниматься. Собственно, заняться-то было и нечем. Многие разгуливали по территории, ребята постарше играли в волейбол и футбол. В общем, до обеда определённо нечего было делать, при всём при этом спать или просто лежать на кровати не разрешалось.
Жара в то время на улице стояла невыносимая, и я стала докучать пионервожатой вопросами, почему бы нам не пойти искупаться. Оказалось, что для этого надо получить разрешение начальника лагеря, и «вообще, это вопрос очень серьёзный, так как все мы маленькие, и кто-то из нас может утонуть». Для меня этот ответ казался более чем странным, ведь летом у бабушки на даче я могла пойти купаться одна и ни разу (ни разу!) не пыталась утонуть.
Наступил вечер первого лагерного дня – и опять ничего увлекательного, ужин в 19.00, а в 22.00 отбой, и все были обязаны лечь спать. Соседка моя, побывавшая в «Артеке», рассказывала, что их в международном лагере постоянно развлекали, было интересное общение, да ещё и с ребятами из разных стран. В «Сосновом бору» ничего такого не было. Я снова донимаю пионервожатую – теперь уже вопросом, когда у нас будет дискотека, на что она мне отвечает, что дискотека только в субботу, а пока идите и рисуйте стенгазету. «Муштра хуже, чем в школе», – подумала я.
Через пару дней такого мучительного отдыха я начала симулировать простуду, чтобы быть высланной к родителям в город. Начальник лагеря даже привёз мне лекарства и синюю лампу для прогревания носа и ушей. Я продолжала изображать страдание от болезни и охать, но никто на мои причитания внимания не обращал.
Тогда я решила бежать. Собрала свои вещи, села в автобус и через час была дома. Мама, увидев меня на пороге, чуть не родила будущего моего младшего брата. Она сказала: «Хорошо, раз не хочешь отдыхать в лагере, не надо, только мы должны ещё раз съездить туда, чтобы всех успокоить, там, наверное, паника». И действительно, когда мы вернулись в пионерский лагерь, пионервожатые плакали горькими слезами – они думали, что я утонула в Волге или потерялась в лесу. Начальник лагеря тоже был расстроен, хотя и не плакал. Больше я никогда в пионерских лагерях не была. Не люблю я ходить строем да под чью-то дудку! Вернее, под чьи-то горны и барабаны…
Пионеры-герои
Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать,
Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.
Борис ГребенщиковВ возрасте девяти-десяти лет всех нас, школьников, принимали в пионеры. Комсомольцы вручили нам по красному галстуку и по значку с изображением В. И. Ленина. Галстук у меня был ярко-красный и всегда немного мятый. Для того чтобы галстук был не мятый, необходимо было его каждый день гладить перед школой. Отличника от двоечника всегда можно было отличить по его галстуку: у отличника он был чистый, яркий, выглаженный, у двоечника – грязный, мятый, в чернилах, иногда рваный.
Особо ответственные пионеры входили в состав пионерской дружины; им было дозволено находиться во время перемены и после школьных уроков в пионерской рубке и вышагивать на торжественных мероприятиях с барабаном и с согнуто-поднятой над головой рукой.
Случалось и такое, что за какую-либо провинность ученика-пионера могли на неделю лишить галстука, а за совсем уж серьёзное хулиганство грозились и вовсе исключить из пионерской организации, чего все мои одноклассники очень боялись.
Существовал определённый образ пионера – эдакого хорошиста, которому надо было соответствовать. С детства мы были буквально нашпигованы литературой патриотического содержания. В список книг для обязательного прочтения входили и рассказы о пионерах-героях, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войны, среди которых Марат Казей, Лёня Голиков, Валя Котик. Эти и многие другие дети принимали участие в боевых действиях в составе воинских частей, участвовали в подполье на оккупированных территориях, многие были казнены, большинство удостоены звания Героев Советского Союза.
Такому образу пионера-героя в мирное время соответствовать было максимально трудно: что мог сделать каждый из нас в школьные годы? Учиться на «отлично», помогать старшим, поддерживать младших…
А героем-то быть хотелось, поэтому каждый партизанил как мог.
Штатная ситуация – мы всем классом срываем урок рисования. Помню ту учительницу, тщетно пытавшуюся научить нас правильно рисовать домики и солнышки: взгляд безумный, блуждающий, речь еле слышная. И вот – общее собрание, разбор полётов. Нас вызывают к классному руководителю и строго так спрашивают: «Кто зачинщик, кто сорвал урок?». Какое-то время все молчат, но вскоре нехотя, но начинают сдавать «своих» и указывают на нас с подругой. Мы, конечно, пели на задней галёрочной парте песню «Ягода малина» Валентины Легкоступовой, но мы же были не единственными, кто срывал уроки, и никак уж мы не были подстрекателями этого срыва. Меня вызывают к учителю, спрашивают: «Срывала урок?» Я соглашаюсь. Спрашивают: «Кто ещё срывал?» Здесь я уже молчу, доносчиком никогда не была. В итоге я – заводила, ответственная за «недостойный высокого звания пионера поступок». Родителей незамедлительно вызывают в школу. Мама удивлялась и говорила: «Как такое может быть – срывали все, а виновата ты одна?» Пусть и так, зато совесть моя чиста, думала я. Мама просто не знала, что я – не предатель. «Всё-таки есть во мне что-то от пионера-героя», – надеялась я.
Для современной молодёжи красный пионерский галстук – фетиш, для нас же – нечто большее: напоминание о нашем детстве и о пионерах-героях.
Макулатура и металлолом
Школа обязала моего ребёнка ежемесячно сдавать макулатуру.
Пришлось подписаться ещё на три газеты.
Сергей ФедоровСбор макулатуры и металлолома – неотъемлемая часть советской эпохи и обязательная программа общественно-полезного труда. Их проводили по несколько раз в год. Один из них, как правило, выпадал на День пионерии, 19 мая.
Накануне, 18 мая, мы с одноклассницами оббегали квартиры многоэтажных домов, выпрашивая старые газеты и журналы. Собрать удавалось немного – жители советских городов в соответствии с распоряжением Госснаба и Госкомиздата СССР сами копили макулатуру на своих балконах и в кладовках. За двадцать сданных килограммов граждане Советского Союза могли получить собрания сочинений великих русских классиков – Льва Толстого, Фёдора Достоевского и некоторых других писателей.
Рядом со входом в школу стояли ответственные пионеры, которые у нас собранную макулатуру принимали и взвешивали, записывая, из какого мы класса. Особо отличившимся и перевыполнившим план давали грамоты за неоценимый вклад в сбережение природных ресурсов, ведь «60 килограммов макулатуры спасали целое дерево»!
Мальчики были заняты сбором металлолома. Тащили всё – железные вёдра, крышки от люков, обломки железных рельсов. Мальчикам тоже давали грамоты.
Мне нравилось, что накануне Дня пионерии можно было не готовиться к урокам, так как 19 мая уроков почти не было, все были заняты проведением торжественных мероприятий и сбором бумажек с железяками.
У нас, детей того поколения, не было чёткого представления, зачем надо было сдавать макулатуру и металлолом, мы просто поступали «как все», испытывая некоторый дискомфорт и стадное чувство. Никчёмность всех этих праздничных торжеств я ощутила в пятом классе, через месяц после Дня пионерии, когда нашла всю собранную нами макулатуру за школой, промокшую от дождя…

Украина. Киев
Самое приятное путешествие – возвращаться домой.
Кларк ГрисвулдКакой я помню Украину, тогда ещё в составе Союза Советских Социалистических Республик? Очень своеобразно помню.
Мне 11 лет. Лето, нас в купе поезда четверо – я, мама, подруга мамы и её сын, мой ровесник. Мама с детства страдает близорукостью и носит очки. Выходим в Киеве из поезда, мамин каблук цепляется за неровности на ступеньке, и она распластывается на перроне. Травм серьёзных избежали, но очки были безнадёжно разбиты. О, ужас, катастрофа! – тогда, в восьмидесятые, именно так всё и выглядело – очки выдавались каким-то очень сложным образом и только по месту жительства. Запасных у мамы не было, так что столицу Украины, со всеми её красотами, мама не увидела: степень близорукости была уж очень высокой.
Почему Киев не увидела я?
Поселились мы у высокопоставленных родственников маминой подруги, военных. Ступив за порог их дома, я поняла, что нарушение установленных здесь правил грозит мне чем-то страшным, может быть, даже выдворением из украинской столицы. За две недели мне пришлось продемонстрировать все навыки bon tone, что далось с большим трудом (можете себе представить, как я радовалась, покидая дом «радушных» киевских хозяев). Но это были не все мучения, испытанные мной на Украине.
Киев я не смогла увидеть ещё и по причине хронического недосыпания. Спальных мест в квартире было, мягко говоря, недостаточно, и мы установили очерёдность: один день на узкой кровати спим мы с мамой, на другой – мамина подруга с сыном. И один день – о, счастье! – на широкой кровати.
Кровать была узкой и неудобной, а мама большой и храпящей, поэтому шансов выспаться у меня не было. А сонный человек – путешественник так себе.
В общем, Киев для меня в 11 моих лет так и остался незнакомой, но, вероятно, красивой столицей Украинской ССР.
Как мы «солили» уроки
Я никогда не позволял, чтобы мои школьные занятия мешали моему образованию.
Марк ТвенБыл солнечный май. Училась я в пятом классе, изыскивая любую возможность, чтобы в школу не пойти, так как учиться, как и все дети моего возраста, не очень любила. Готова была болеть и ежечасно мерить температуру, полоскать горло фурацилином, есть мёд, пить горькие таблетки, только бы остаться дома. Жила я тогда временно у бабушки с дедушкой. По соседству проживала моя подруга Наталья, четырьмя годами старше. Распивая вечером чай на Наташиной кухне, задумали мы «просолить» все уроки следующего дня. Мысль эта пришлась нам по нраву и очень грела душу. Наташа тоже не очень любила ходить в школу, и мы постоянно что-нибудь придумывали: натирали градусник, чтобы достичь в нём нужной температуры, пили йод, ели снег, выходили раздетыми на балкон…
Итак, было решено – вместо уроков идём в кино, гуляем по городу, едим мороженое.
Утро следующего дня. Бабушка торжественно вручает мне букет тюльпанов «для классной руководительницы» в знак благодарности за то, что меня не только терпит, но ещё и учит. Я в недоумении. Отнекиваться от тюльпанов, значит, выдать себя и нашу вчерашнюю договорённость с Наташей. Пришлось взять цветы с собой. Когда Наташа увидела меня с букетом цветов, с ней от смеха случилась истерика. Я стояла растерянная, не зная, как избавиться от цветов. Выбрасывать было жалко – всё-таки выращены они были в нашем саду, и я решила их продать. Мы с Наташей отправились в подземный переход, где обычно и торгуют цветами, я скромно встала у стенки и робким голосом начала предлагать свой товар мимо шагающим и спешащим на работу людям. Сначала мои цветы никого не интересовали, но вскоре появился-таки наш спаситель – молодой военный – и купил всё разом за один рубль. Один рубль в советское время?! Это же были деньги!
Теперь мы разжились финансами на кино и мороженое. Отправились в кинотеатр «Спутник» на «Инопланетянку» режиссёра Якова Сегеля. Смысл фильма был мне не очень понятен в силу малого возраста, зато в памяти хорошо зафиксировалось то, что вместо скучных уроков можно находиться в полупустом кинозале и смотреть кино.
Следующим по плану было кафе-мороженое, что находилось рядом с домом. До сих пор помню шоколадный запах внутри этого чуда советской дофастфудовской эпохи. Мороженое было самым обычным, но посыпанным шоколадной стружкой и в треугольных железных чашечках. В советское время стеклянная посуда была роскошью, да и билась она, не в пример железной, постоянно.
Время обеденное – увы, пора возвращаться. Дома я что-то напутала с уроками, и бабушке стало понятно, что в школе я не была. Нотации читались весь вечер. Я была так напугана, что потом ещё долго уроки не прогуливала совсем.
Учитель литературы
Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирождённый такт.
Адольф ДистервегИз школьной поры, как ни странно, в памяти моей – учитель русского языка и литературы. Звали её Мара Александровна, и преподавала она у нас в старших классах. Помню её не потому, что она меня любила или как-то выделяла, скорее даже наоборот. У нашего преподавателя были странные методы преподавания и воспитания – на мой взгляд, очень эффективные. Мара Александровна определённо обладала даром разговорить ученика на изучаемую тему. Как у неё это получалось? Легко. На дом к прочтению задавалось какое-либо литературное произведение – скажем, «Мастер и Маргарита» Булгакова. На следующем уроке Мара Александровна задавала вопросы о прочитанном, каждый из присутствующих должен был поднять руку и ответить. Один ответ – один балл. Захотели получить «пятёрку», будьте добры ответить пять раз за урок. Если не поднимали руку ни разу, получали «двойку». «Два» в четверти и «два» за год. Стимуляция «двойками» в дневнике по литературе была мощнейшая. Читали все!
В старших классах мы, даже прогуливая все остальные уроки, непременно успевали на литературу Мары Александровны. «Собирались лодыри на каток, а попали лодыри на урок» – это было про нас. Слушали мы её как зачарованные. Вот несколько запомнившихся фраз из того, что она нам говорила: «Если выступаете с докладом, никогда не упоминайте более одной цифры, все остальные не запоминаются» и «На самоубийство способен только сильный человек». Про убийство и самоубийство мы очень много беседовали, когда проходили «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского.
Заставить класс слушать себя – ещё одно из достоинств нашего литературоведа. Рассказывая о произведении или писателе, Мара Александровна всегда плавно перемещалась по классу. В классе же, как известно, всегда есть такой ученик, который создаёт шум. Для этого нерадивому ученику соответственно необходимы были какие-нибудь предметы: пенал, тетрадь, портфель, учебник. Как только Мара Александровна обнаруживала такой предмет в руках ученика, забирала его и медленно, продолжая урок и не повышая голоса, подходила к двери и выбрасывала свою добычу в коридор. Вот такая жёсткая была методика по установлению безмолвия в классе во время урока. После двух таких заходов тишина в классе стояла гробовая.
Были у Мары Александровны, конечно же, и любимчики, но интересовал её сам человек, с нестандартным мышлением, с самобытным взглядом на мир, пусть даже перебивающийся с «двойки» на «тройку». Отличников же, вгрызающихся в произведения за «пятёрки», Мара Александровна не любила.
Побольше бы таких учителей, к которым хочется идти, бежать, лететь, учителей, обладающих потрясающим даром преподавания и знанием своего предмета!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



