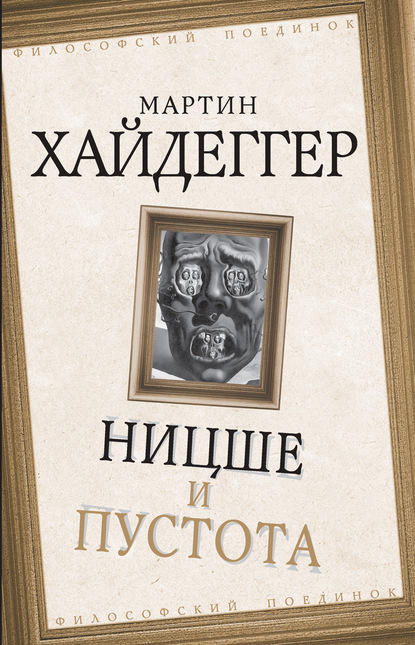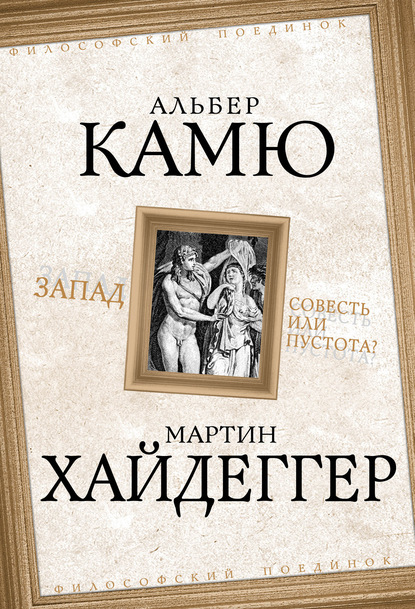Полная версия
Апокалипсис смысла. Сборник работ западных философов XX – XXI вв.

Апокалипсис смысла
Сборник работ западных философов XX–XXI вв
Серия «Философский поединок»
© ООО «ТД Алгоритм», 2018
* * *Часть I
Восстал брат на брата
Георг Зиммель[1]
Человек как враг
О естественной враждебности между человеком и человеком говорят скептические моралисты, для которых homo homini lupus est[2] и «в несчастье наших лучших друзей есть нечто, не вполне для нас неприятное». Однако же и противоположным образом настроенная моральная философия, выводящая нравственную самоотверженность из трансцендентных основ нашего существа, отнюдь не избегает подобного пессимизма. Ведь она признает, что в наших волнениях, опытно постижимых и исчислимых, невозможно обнаружить жертвенное отношение Я к Ты. Следовательно, эмпирически, согласно рассудку, человек является просто эгоистом, и обратить этот естественный факт в его противоположность уже никогда не сможет сама природа; на это способен лишь deus ex machina[3] некоего метафизического бытия внутри нас. Видимо, данная враждебность оказывается, по меньшей мере, некоторой формой или основой человеческих отношений наряду с другой – симпатией между людьми. Примечательно: сильный интерес, который, например, человек испытывает именно к страданиям других людей, можно объяснить только смешением обеих мотивировок.
На сущностно присущую нам антипатию указывает и такое нередкое явление, как «дух противоречия», свойственный отнюдь не только принципиальным упрямцам, всегда говорящим «нет» (к отчаянию своего окружения, будь то дружеский или семейный круг, комитет или театральная публика). Нельзя сказать, что наиболее характерна область политическая, где «дух противоречия» торжествует в тех деятелях оппозиции, классическим типом которых для Маколея[4] был Роберт Фергюсон; His hostility was not to Popery or to Protestantism, to monarchical government or to republican government, to the house of Stuarts or to the house of Nassau, but to whatever was at the time established[5].
Все эти случаи, считающиеся типами «чистой оппозиции», не обязательно должны ею быть; ибо такого рода оппоненты объявляют себя защитниками угрожаемых прав, борцами за объективно правильное, охранителями меньшинства как такового. Абстрактное стремление к оппозиции, по-моему, гораздо отчетливее демонстрируют куда менее примечательные ситуации: тихое, едва осознанное, часто сразу же улетучивающееся побуждение противоречить некоторому утверждению или требованию именно тогда, когда оно встречается в категоричной форме. Даже во вполне гармоничных отношениях у многих достаточно податливых натур этот оппозиционный инстинкт выступает с неизбежностью рефлекторного движения и подмешивается, пусть и без видимых последствий, к поведению в целом. Допустим, это действительно захотели бы назвать защитным инстинктом – ведь и многие животные автоматически выбрасывают свои приспособления для защиты и нападения в ответ на одно только прикосновение. Но тем самым был бы только доказан изначальный, фундаментальный характер оппозиции, так как это означало бы, что личность, даже и не подвергаясь нападению, лишь реагируя на самовыражения других, не способна утверждать себя иначе, как через оппозицию, что первый инстинкт, при помощи которого она себя утверждает, есть отрицание другого.
Прежде всего, от признания априорного инстинкта борьбы невозможно отказаться, если присмотреться к невероятно мелким, просто смехотворным поводам самой серьезной борьбы. Один английский историк рассказывает, как передрались между собой две ирландские партии, вражда которых возникла из спора относительно масти какой-то коровы. В Индии несколько десятилетий назад происходили серьезные восстания вследствие распри двух партий, ничего не знавших одна о другой, кроме того, что они – партии правой и левой руки. И только, так сказать, на другом конце эта ничтожность поводов для спора обнаруживает себя в том, что часто он завершается явлениями просто ребяческими. Магометане и индусы живут в Индии в постоянной, латентной вражде и отмечают ее тем, что магометане застегивают свое верхнее платье слева направо, а индусы – справа налево, что на общих трапезах первые усаживаются в круг, а вторые – в ряд, что бедные магометане используют в качестве тарелки одну сторону листа, а бедные индусы – другую. В человеческой вражде причина и действие часто до такой степени находятся вне связи и разумной пропорции, что невозможно правильно понять, является ли мнимый предмет спора его действительным поводом или всего только выходом для уже существующей вражды. Что касается, например, отдельных процессов борьбы между римскими и греческими партиями в цирке, борьбы Алой и Белой розы, – то невозможность обнаружить какое-либо рациональное основание для борьбы заставляет нас по меньшей мере сомневаться в ее смысле. В целом создается впечатление, что люди никогда не любили друг друга из-за вещей столь малых и ничтожных, как те, из-за которых один другого ненавидит.
Наконец, на мысль о том, что существует изначальная потребность во враждебности, часто наводит и невероятно легкая внушаемость враждебного настроения. В общем, среднему человеку гораздо труднее удается внушить другому такому же доверие и склонность к некоему третьему, прежде ему безразличному, чем недоверие и отвращение. Весьма характерно, что это различие оказывается относительно резким именно там, где речь идет о низших степенях того и другого, о первых зачатках настроенности и предрассудка в пользу или против кого-либо; что касается более высоких степеней, ведущих к практике, то тогда решает уже не эта мимолетная, однако выдающая основной инстинкт наклонность, но соображение более осознанного характера. Здесь обнаруживается тот же факт, но как бы иначе повернутый: легкие, словно бы тенью набегающие предубеждения на наш образ другого могут быть внушены даже совершенно безразличными личностями; для возникновения же благоприятного предрассудка нужен уже некто авторитетный или находящийся с нами в душевной близости. Быть может, без этой легкости или легкомыслия, с каким средний человек реагирует именно на внушения неблагоприятного рода, и aliquid haeret[6] не стало бы трагической истиной.
Наблюдение всяческих антипатий и разделения на партии, интриг и случаев открытой борьбы, конечно, могло бы поставить враждебность в ряд тех первичных человеческих энергий, которые не высвобождаются внешней реальностью их предметов, но сами для себя эти предметы создают. Так, говорят, что человек не потому имеет религию, что верит в Бога, но потому верит в Бога, что имеет религию как настроенность своей души. В отношении любви, пожалуй, общепризнано, что она, особенно в молодые годы, не есть лишь реакция нашей души, которую вызывает ее предмет (например, как воспринимается цвет нашим аппаратом зрения). Душа имеет потребность любить, и только сама объемлет некоторый предмет, удовлетворяющий этой потребности. Да ведь душа впервые и наделяет его, при определенных обстоятельствах, такими свойствами, которые якобы вызвали любовь. Нет никаких оснований утверждать, что то же самое (с некоторыми оговорками) не может происходить и с развитием противоположного аффекта, что душа не обладает автохтонной потребностью ненавидеть и бороться, часто только и проецирующей на избираемые ею предметы, их возбуждающие ненависть свойства.
Это не столь очевидный случай, как любовь. Дело, видимо, в том, что влечение любви, благодаря тому, что в юности оно невероятно физиологически обострено, несомненным образом подтверждает свою спонтанность, свою определенность со стороны terminus a quo[7]. Влечение ненависти, пожалуй, только в виде исключения имеет такие острые стадии, которые могли бы позволить равным образом осознать ее субъективно-спонтанный характер.
Итак, если у человека действительно есть формальное влечение враждебности как парная противоположность потребности в симпатии, то, по-моему, исторически оно берет начало в одном из тех психических процессов дистилляции, когда внутренние движения, в конце концов, оставляют в душе после себя общую им форму как некое самостоятельное влечение. Интересы различного рода столь часто побуждают к борьбе за определенные блага, к оппозиции определенным личностям, что, вполне вероятно, в качестве остатка в наследственный инвентарь нашего рода могло перейти состояние возбуждения, само по себе побуждающее к антагонистическим выражениям.
Известно, что – в силу неоднократно обсуждавшихся причин – взаимоотношения примитивных групп почти всегда враждебны. Пожалуй, самый радикальный пример – индейцы, у которых каждое племя считалось находящимся в состоянии войны с любым другим, если с ним не был заключен внятный мирный договор. Но нельзя забывать, что на ранних стадиях культуры война есть едва ли не единственная форма, в которой вообще идет речь о соприкосновении с чужой группой. Покуда межтерриториальное торговое общение было неразвито, индивидуальные путешествия неизвестны, а духовная общность еще не выходила за границу группы, помимо войны не было никаких социологических взаимосвязей между различными группами. Здесь взаимоотношения элементов группы и примитивных групп между собой проявляются в совершенно противоположных формах. Внутри замкнутого круга вражда, как правило, означает прерывание взаимосвязей, отстраненность и избегание контактов; эти негативные явления сопровождает даже страстное взаимодействие открытой борьбы. Напротив, каждая из групп в целом равнодушна к другой, покуда длится мир, и лишь во время войны они обретают друг для друга активную значимость. Поэтому одно и то же влечение к экспансии и действенности, которое внутри требует безусловного мира как основы сцепления интересов и взаимодействия, вовне может выступать как воинственная тенденция.
* * *Война, возникающая на основе единства и равенства, очень часто бывает более страстной и радикальной, чем в случае, если партии не составляли одно целое. Древний иудейский закон разрешает двоеженство, но он же налагает запрет на брак с двумя сестрами (хотя после смерти одной из них можно жениться на другой), ибо такой брак особо способствовал бы возбуждению ревности. То есть прямо предполагается как факт опыта, что на почве родственной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужими. Взаимная ненависть мельчайших соседних государств, у которых вся картина мира, локальные связи и интересы необходимым образом весьма сходны и нередко должны даже совпадать, часто намного более страстна и непримирима, чем между большими нациями, пространственно и по существу совершенно чужими друг другу. Этот рок настиг и Грецию, и послеримскую Италию, и с еще большей силой он обрушивался на Англию, пока там после норманнского завоевания не сплавились обе расы. Они, эти расы, жили вперемежку на одной и той же территории, были привязаны друг к другу постоянно действовавшими жизненными интересами, их удерживала вместе единая идея государства. И все-таки внутренне они были совершенно чужды, во всем существе каждой из них сказывалось отсутствие взаимопонимания, а во властных интересах они были абсолютно враждебны одна другой. Справедливо сказано, что ожесточение и ненависть тут были большими, нежели они вообще могли проявиться в отношениях между внешне и внутренне разделенными племенами.
Дела церковные наиболее показательны, ибо здесь малейшее отличие, поскольку оно догматически фиксировано, сразу заключает в себе логическую непримиримость: если отклонение вообще имеет место, то в категориальном отношении безразлично, велико оно или мало. Так обстояло дело в конфессиональных спорах между лютеранами и реформатами в XVII в. Едва только состоялось великое обособление от католицизма, как тут же целое расщеплялось по ничтожнейшим поводам на партии, по заявлениям которых скорее возможна была бы общность с папистами, чем со сторонниками иного исповедания. А когда в 1875 г. в Берне возникла трудность с определением места католического богослужения, папа не разрешил, чтобы оно состоялось в церкви старокатоликов[8], лучше тогда уж в реформатской церкви.
Два рода общности следует принять во внимание как фундамент особенно острого антагонизма: общность качеств и общность благодаря включенности в единую социальную связь. Первая сводится исключительно к тому, что мы являемся существами различными. Вражда должна тем глубже и сильнее возбудить сознание, чем больше схожесть партий, от которой она отталкивается. При мирной или исполненной любви настроенности это – отличный защитный инструмент объединения, сравнимый с предупредительной функцией боли в организме; ибо именно явственная осознанность, с какой заявляет о себе диссонанс в обычно гармоничных отношениях, сразу же призывает к устранению почвы для спора, чтобы он не разъел отношения до самого основания.
Но где нет этого намерения при любых обстоятельствах все-таки договориться, там сознание антагонизма, обостренное равенством во всем остальном, делает антагонизм еще острее. Люди, у которых много общего, часто куда горше, несправедливее обижают друг друга, чем совершенно чуждые. Иногда это случается потому, что большая область их взаимной общности стала чем-то само собой разумеющимся, и поэтому не она, а то, что на данный момент их разнит, определяет позиции по отношению друг к другу. Преимущественно это происходит именно в силу их немногих различий, а всякий мельчайший антагонизм приобретает иное относительное значение, чем это бывает между людьми более отчужденными, с самого начала взаимно ориентированными на возможные различия. Отсюда – семейные конфликты из-за совершеннейших пустяков, трагичность «мелочей», из-за которых порой расходятся вполне подходящие друг другу люди. Это отнюдь не всегда означает, что гармонизирующие силы еще прежде пришли в упадок; как раз большая схожесть свойств, склонностей, убеждений может привести к тому, что расхождение в чем-то совсем незначительном (из-за остроты противоположностей) будет ощущаться как нечто совершенно невыносимое.
К этому добавляется еще следующее: чужому, с кем не объединяют ни общие качества, ни интересы, люди противостоят объективно, пряча личность в скорлупу сдержанности, поэтому отдельное различие не так легко становится доминантой человека. С абсолютно чужими соприкасаются лишь в тех точках, где возможны отдельные переговоры или совпадение интересов. Ими ограничивается и течение конфликта. Чем больше у нас как целостных людей общего с другим человеком, тем легче наша целостность станет сопрягаться с каждым отдельным отношением к нему. Отсюда та непомерная резкость, те срывы, какие люди, обычно вполне собою владеющие, иногда позволяют себе как раз с самыми близкими. Счастье и глубина отношений с человеком, с которым мы, так сказать, ощущаем свое тождество, когда ни одно слово, совместная деятельность или страдание не остаются подлинно обособленными, а облекают собой всю душу, душа отдает себя без остатка – так это и воспринимается: вот что делает разлад в подобном случает столь роковым и страстным, задавая схему для гибельного отождествления: «Ты – вообще».
Если люди оказываются однажды связанными между собой таким образом, они слишком привыкают всю тотальность своего бытия и чувствования отдавать тому, к кому в этот момент обращаются. Иначе они и в спор привнесут излишние акценты, своего рода периферию, из-за чего спор перерастает самый повод к нему и пределы своего объективного значения и ведет к раздвоению личности. На высшей ступени духовного образования этого можно избежать; ибо для нее характерно соединение полной самоотдачи (душа отдает себя одной личности) с полным взаимным обособлением элементов души. В то время как недифференцированная страсть сплавляет тотальность человека с возбуждением одной части или момента, образование не позволяет им вырваться за пределы его собственного, точно очерченного права. Тем самым отношения гармоничных натур обретают то преимущество, что именно в конфликте они осознают, сколь незначителен он по сравнению с соединяющими их силами. Но помимо этого, именно у глубоких натур утонченная чувствительность к различиям делает склонность и отвращение тем более страстными, что они выделяются на фоне противоположным образом окрашенного прошлого, а именно, в случае однократных, неотзываемых решений об их отношениях, совершенно отличных от маятникового движения их повседневной взаимопринадлежности, не подвергаемой сомнению.
Стихийное отвращение, даже чувство ненависти между мужчинами и женщинами не имеет определенных оснований, а есть обоюдное отвержение всего бытия личностей – иногда это первая стадия отношений, второй стадией которых является страстная любовь. Можно было бы прийти к парадоксальному предположению, что у натур, которые предопределены к самой тесной чувственной связи, этот поворот вызывается инстинктивной целесообразностью, чтобы сообщить определенному чувству посредством противоположной ему прелюдии – словно бы отступлением для разбега – страстное обострение и сознание того, что теперь обретено. Ту же форму обнаруживает и противоположное явление: глубочайшая ненависть вырастает из разбитой любви. Здесь, пожалуй, решающее значение имеет не только восприимчивость к различиям, но, прежде всего, опровержение собственного прошлого, выражающееся в такой смене чувств. Узнать, что глубокая любовь (притом не только половая) является заблуждением и отсутствием инстинкта, – это такое самообнажение, такой надлом в надежности и единстве нашего самосознания, что мы неизбежно заставляем предмет этого невыносимого чувства искупить его перед нами. Тайное ощущение собственной вины мы весьма предусмотрительно прикрываем ненавистью, которая облегчает приписывание всей вины другому.
Перевод с немецкого В. ВанчуговаВитторио Хёсле[9]
Кризис индивидуальной и коллективной идентичности
(Из журнала «Вопросы философии», 1994, № 10)
Понятие «кризис идентичности» заслуживает анализа по двум причинам. Во-первых, для традиционной метафизики было аксиомой, что все идентично самому себе. Однако если это так, тогда почему необходимое свойство бытия – идентичность – может переживать кризис? Несмотря на все логические трудности, очевидно, что это понятие не пустое, – индивидуальные и коллективные кризисы действительно случаются, и в наше время, возможно, даже чаще, чем прежде. Такова вторая причина, делающая анализ понятия «кризис идентичности» весьма полезным, – во всяком случае, более полезным, нежели чисто логическое упражнение: ведь всякий, кто хочет понять современный мир, едва ли достигнет своей цели, не постигнув логики кризиса идентичности.
Поскольку я философ, а не психолог и не социолог, мои рассуждения будут достаточно отвлеченными. Конкретные примеры, которые я привожу в своем тексте, не имеют отношения к исследованию каких-то реальных ситуаций, они взяты из литературы, – поскольку я уверен, что искусство имеет прямое отношение к истине и что поэтому оно может поспорить с наукой и философией, когда мы пытаемся понять не эмпирические факты, а сущность действительности.
Мой очерк состоит из трех частей. В первой части я рассматриваю понятие идентичности, а именно составляющие его элементы. Во второй части я обращаюсь к анализу сущности, причин и последствий кризиса идентичности. Третья посвящена восстановлению новой идентичности в процессе кризиса.
IДля того чтобы понять, как логически возможен кризис идентичности, начнем с различения двух понятий идентичности. Формальная идентичность является качеством каждого объекта (включая такие абстрактные объекты, как числа) и предпосылкой последовательности любой теории об этих объектах. Реальная же идентичность присуща только эмпирическим объектам и имеет разные формы в зависимости от онтологического статуса конкретного объекта. Камень идентичен себе иначе, нежели организм, – личность или институт. Данное понятие идентичности не тавтологично – этой идентичности угрожает сила, которая, в конечном счете, разрушит идентичность реального объекта самому себе. Эта сила есть время. Под реальной идентичностью мы понимаем сохранение формы объекта во времени. Реальная идентичность представляет собой результат напряженной борьбы между формами, которые нашли воплощение в материи, и временным измерением. В этом смысле мы можем сказать, что ядро утрачивает свою идентичность в процессе радиоактивного распада, – сохранение же идентичности предполагает преодоление противодействующих сил и является не данностью, а заданностью.
Это последнее можно сказать, по крайней мере, об организмах. Ибо для органической формы бытия характерно то, что она является более сложной и прекрасной, чем неорганические формы, и продолжает жить только благодаря метаболизму, т. е. обмену материи и энергии. Однако конечное разрушение органической формы неминуемо; тенденция развития в органической сфере состоит в интеграции смерти – которая в одноклеточном организме всегда вызывается внешними причинами – в программу развития организмов. Превращение времени во внутренний фактор жизни организма мы называем старением; здесь мы имеем наметки более общей метафизической гипотезы, согласно которой онтологические уровни реальности различаются в зависимости от их отношения ко времени. Окончательная победа смерти делает необходимым воспроизводство, которое может рассматриваться как синтез разрушения и сохранения.
Эти рассуждения об органическом вполне уместны в очерке о кризисе индивидуальной идентичности, поскольку все известные нам разумные существа являются организмами. Однако же они особые организмы. Прежде всего, они наделены способностью ощущения, как и многие другие организмы, хотя мы и не знаем, в какой момент и где в органическом мире возникает это таинственное качество. Я называю его таинственным, поскольку с ним связаны определенные онтологические проблемы, не свойственные другим новым качествам. В сущности, ментальные состояния, даже если рассматривать их как функции мозга, явно не тождественны с последними. Если бы мы могли понаблюдать за работой мозга другого человека, мы, несомненно, многое узнали бы, возможно даже, открыли бы причины ментальных состояний, но все же никогда не обнаружили бы самих ментальных состояний. Наблюдение за собственным «я» нельзя свести к наблюдению за другим субъектом. Поэтому мы не можем сказать, что ментальные состояния локализованы в пространстве. Время, однако же, является их существенной характеристикой.
Здесь не место обсуждать проблему соотношения сознания и тела, тем более, что я не могу предложить ее удовлетворительного решения. Я хочу обратить внимание только на некоторые условия, которым должно удовлетворять любое ее решение. Хотя я не знаю ни одного последовательного и убедительного доказательства в пользу того, что ментальные акты неотрывны от тела, несомненно, что все известные нам ментальные акты действительно присущи существам, имеющим тело, точнее, органическое тело. Тело является самым важным фактором, который позволяет другим людям идентифицировать конкретного человека, – так, я узнаю своих друзей благодаря неизменности их тел. Важно отметить, однако, что тело не является абсолютным условием – достаточным либо необходимым – личностной идентичности. Вспомним, что в состоянии комы идентичность личности утрачивается, даже если тело остается неизменным (собственно говоря, форма тела, ибо материя в любом случае за достаточно большие промежутки времени претерпевает изменения). И даже при том, что представления древних о метемпсихозе и метаморфозе не согласуются с известными нам законами природы, – они все же показывают нам, что нет ничего логически невозможного в допущении радикального преображения тела, принадлежащего одному и тому же человеку. В сущности очень часто бывает, что люди, потеряв даже большие части тела, не переживают кризиса идентичности; и даже в «Превращении» Кафки возникшие у Грегора Замзы проблемы идентичности вызваны скорее реакцией других людей, чем радикальным изменением его тела. Тем не менее бессмысленно отрицать, что тело является немаловажной составной частью идентичности человека: оно «принадлежит» человеку в гораздо большей степени, чем даже любимейшая собственность. Это верно не только потому, что тело представляется физическим базисом ментальных актов, но и потому, что представление о собственном теле является важной частью создаваемого человеком образа самого себя; кроме того, тело может выразить – даже лучше, чем сознательные ментальные акты, – сокровенные измерения человеческой идентичности. Хотя я не думаю, что ментальные акты могут быть причинами физических актов (и, следовательно, не имею объяснения для явления), мне кажется, вполне можно рассматривать определенные телесные жесты как выражения соответствующих желаний, стремлений и т. д., даже если мы и уверены в том, что эти желания и стремления отсутствуют в потоке сознания в тот самый момент, когда выражаются в телесных жестах. Жест может сказать о существенных качествах человека больше, чем сопутствующие мысли; поэтому понимание языка тела может быть лучшим ключом к характеру человека, чем анализ сознания. Помимо чисто физических реакций и действий, вызванных сознательным решением (которое тоже является физическим состоянием), мы должны допустить, в качестве «среднего пути», телеологическое поведение, направленное на удовлетворение – без всякого посредства сознания – определенных потребностей, свойственных исключительно организму. Хорошо известно, что таково по преимуществу поведение животных; органические корни человека могут разъяснить нам, почему такое поведение свойственно и человеку. (Между прочим, я убежден, что область телеологического поведения охватывает не только подавляемые желания, скажем сексуальные, но и самые интеллектуальные из всех стремлений: так, медленный рост гения был бы невозможен без телеологического поведения.)