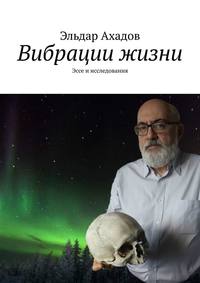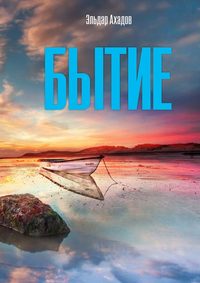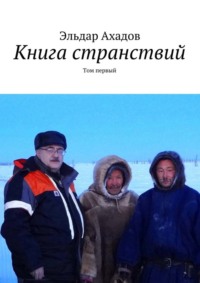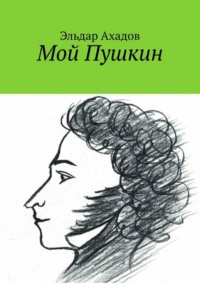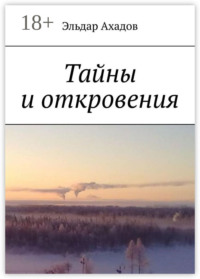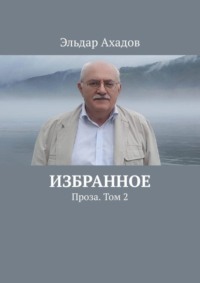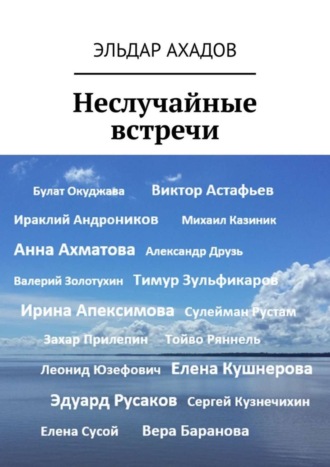
Полная версия
Неслучайные встречи
Ирина Викторовна произвела на меня неизгладимое впечатление. Гостеприимная хозяйка вечера, она, словно бабочка, порхающая с цветка на цветок, успевала перемещаться от столика к столику с горящими свечами, общаясь на лету с каждым приглашённым гостем. В романтическом полумраке ночи сияли огоньки свечей и звучали волшебные пушкинские строки.
В детстве Ирина мечтала стать певицей. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Позже – пошла учиться в специализированный театральный класс общеобразовательной средней школы. Окончила школу-студию МХАТ (мастерская Олега Табакова) и до 2000 года работала в московском художественном театре имени А. П. Чехова. Затем училась на спецкурсах современного танца во Флоридском университете (США), в актёрских школах Нью-Йорка и Лондона. Она всегда любила учиться и познавать новое.
Неисчерпаемое трудолюбие Ирины Викторовны, её актёрское дарование и преданность театральной сцене нашли своё отражение в десятках сыгранных ролей. Лаура и Марина Мнишек из пушкинских «Маленьких трагедий» и «Бориса Годунова», Софья из грибоедовского «Горя от ума», Титания из шекспировского «Сна в летнюю ночь», Королева из «Беги, Алиса, беги» по Льюису Кэролу, эти и множество других блестящих образов, созданных ею на сцене, навсегда останутся в памяти благодарных зрителей. Невозможно не упомянуть хотя бы несколькими строками её работы в кинематографе: «Диссидент», «Октябрь», «Ширли-мырли», «Му-му», «Святой», «День рождения Буржуя», «Северное сияние», «Есенин», «Сыщик Путилин», «Книга Мастеров», «Генеральская внучка», «Игра в правду»…
В марте 2015 года Ирина Викторовна Апексимова стала директором Театра на Таганке.
Наша встреча в ту пушкинскую ночь произошла и внезапно, и как бы случайно. В тёмном изысканном платье одна среди перемещающейся толпы, прислонившись к деревянной стойке навеса, она стояла с изящным хрустальным бокалом красного вина в тонкой руке. Конечно же, я сразу узнал её, поскольку видел это лицо на экране бесчисленное количество раз. Это естественно. Удивительно другое, то, что и она узнала меня сразу, улыбнулась и тут же безошибочно назвала по имени…
На прощание мы сфотографировались на память, но снимок получился не очень удачным, и я сделал коллаж из двух других наших фотографий той летней сказочной ночи Эрмитажа и пушкинского гения. Этой весной мы собирались увидеться на моём лермонтовском вечере в Москве, но этого не случилось: Ирина Викторовна была ведущей концерта в Кремле, оба наших мероприятия начинались одновременно.
Сказать, что она – известная популярная российская актриса и режиссёр театра и кино, что она – театральный и общественный деятель, певица и телеведущая – очень и очень мало. Поэтому добавлю от себя: это очень талантливый человек, очень отзывчивый и внимательный к другим, ну, и конечно, обладающая неисчерпаемым обаянием красавица…
Виктор Лапшин
Посвящается памяти Виктора Николаевича Лапшина – главного врача красноярского родильного дома номер четыре.
Этой ночью снился мне странный сон… Огромные-преогромные врата посреди неба. Резные, вроде как из наиценнейших пород деревьев: и черного, и красного, и коричневого, и белого, и желтого – всех цветов и оттенков, какие только бывают. Резьба искусная, тонкая, всё до самых мелких деталей разглядеть можно: тут и виноградные лозы с гроздьями, и львы рычащие, и медведи, и зайчики, и птички поют, и леса широкие, и реки текучие, и горы высокие, дальние, серебристые… Стал я вглядываться: а оно всё живое и есть! Шевелится, дышит, ветрами шумит…
А перед вратами теми облака белоснежные клубятся, и выглядывают из них отовсюду, как из кустов, малыши-ангелочки. Видно, что много-много их там. Выглянут и снова прячутся.
– Да, что ж это делается, куда вы поразлетелись, поразбежались-то опять, а?! Ну-ка, быстро сюда! Эй, малышня! Хватит копошиться, в кошки-мышки играть, а то я сейчас уже рассержусь!
Громыхая зычным голосом, прохаживается вдоль врат насупленный здоровенный дядька с широкой стриженой бородой и зорко посматривает на ребятню. Раз! Ухватил одного, который зазевался, приоткрыл врата и подбросил его легонько туда. И полетел малыш, ревя и посверкивая крылышками, полетел на землю, в новую свою жизнь…
Чей же это голос был? Знакомый же, а вот спросонья не разберу никак.
– Ах, вы курвы такие! И как это вам на ум такое взбрело! Уволю! Завтра же заявление на стол и вон из роддома в… дальнюю даль! Кольца, серьги нацепили, косметики килограмм на рожи свои бесстыжие! Это ж родильное отделение, а не бордель! Совсем ума нет!!! Какие вы медработницы?! Бабьё натуральное! В родильном отделении всё должно быть стерильно! … Вам же русским языком сказано было!
Разъярённый главврач Лапшин выпроваживает из родильного двух дамочек в халатах. Обе в слезах. Новенькие. А ведь действительно говорил он им обо всём при приеме, предупреждал, но дамы видимо решили, что указания местного начальства можно корректировать по своему усмотрению. Ошибочка вышла. У Лапшина с этим строго. Не порезвишься.
Вот он большой, как самовар, стоит со стаканом горячего чая перед окном в своем кабинете и смачно ругается уже по другому поводу. Лапшин – в матерщине мастер уникальнейший. Как закатит «соловьиную руладу» – залюбуешься разнообразием могучего русского языка. Сколько же в нём нюансов и коленцев неведомых кроется!
Мат я как бы пропускаю, но в остальном смысл произносимого примерно таков:
– Вот же какие девчонки нехорошие, нехорошие, совсем очень нехорошие! Это ж надо! Я их только что в туалете поймал курящими, нехорошие они такие, и выпроводил на нехорошо! Их, нехороших, сюда на сохранение привезли, обеим семнадцати нет, вместо мозгов одно нехорошее, а они, глянь, курят, стоят за уличными дверями! Нехорошо! Нехорошо, нехорошо! Попростужаются же, нехорошие такие девочки!
Какие из них будущие матери? Как они детей растить будут? У обеих на локтях синё, поистыкано уже с такого возраста, да и по глазам нехорошим видно, чем занимались.
Вот эта, нехорошая такая, отказную хочет написать на младенчика своего. Ещё не родила, а уже отказывается, ах, какая же она нехорошая матушка!
Девушки в махровых халатах с большими выпирающими животами тем временем накурились, намерзлись на осеннем ветру у порога роддома и, разговаривая друг с другом, вальяжно зашли обратно. Им-то не слышно…
В роддоме номер четыре обычного сибирского города, в котором служил врачебную службу главврач Лапшин, пусть было также бедно, как и везде у бюджетников, но, по крайней мере, чисто и ответственно по отношению к роженицам и малышам.
Здесь невозможны были ситуации, чтобы женщину в предродовой оставили одну, чтобы кому-то сделали кесарево сечение и забыли убрать послед, чтобы шов на матке нечаянно подшили к тканям мочевого пузыря, чтобы кого-то случайно заразили лишаем или чем-то ещё, чтобы родившую вывезли в коридор и оставили там на полдня зимой под открытым окном, чтобы кормящим матерям давали гороховый суп или салат с огурцами, чтобы посетители проходили прямо в палаты в верхней одежде и грязной уличной обуви…
Вроде бы так и должно быть, но если честно, без вранья: всегда ли и везде ли у нас по жизни есть то, что должно быть?
Да, Лапшин ругался, да, устраивал жуткие разносы персоналу, если находил за что. Да, в райздраве он вырывал «свое» для роддома, за каждую бюджетную строку боролся до последнего, и потому всегда был «неудобным» для любого начальства. Начальство его, естественно, не любило, но, хотя придраться, чтобы уволить, у нас можно и к забору, Лапшина не увольняли, потому что охочих на его место почему-то всякий раз не находилось. А ещё потому, наверное, что у роддома Лапшина были самые низкие показатели детской смертности и заболеваемости во всем регионе.
Лапшин любил порядок на своём «корабле». Однажды, по какой-то сантехнической причине поздно вечером сломался душ. Ну, как в роддоме без душа? И работники районного ЖКХ, попытавшиеся сопротивляться отговорками про то, что «давайте, утром разберемся», познали на своей шкуре смысл выражения «вальпургиева ночь». Слово за слово и – Лапшин учинил им драку. В самом прямом смысле. С приездом милиции и прочими разборками. Тут уж все думали, что его уволят…
И случилось-таки два чуда. Первое: к трем часам ночи душ работал как часы. Второе: Лапшина оштрафовали, лишили премий, дали строгий выговор, сделали наипоследнейшее предупреждение, но главное… всё-таки оставили на работе.
А вот он коллег щадил не всегда. Раз довелось ему услышать в операционной, как молодой ассистент смачно называет кричащего, только что родившегося красного младенца кусочком мяса. Через два часа мрачный, как осенняя туча, Лапшин в своем кабинете нарочито вежливо предложил юноше написать заявление об увольнении по собственному желанию. Никакие извинения приняты не были.
– Молодой человек, нам с Вами не по пути, у нас тут есть только люди. Большие и маленькие. А мясо ищите, юноша, в мясных лавках. Мы не сработаемся. Прощайте…
У главврача, который кроме всего прочего еще и сам частенько принимает роды и делает операции, свободного времени не бывает. Но если каким-то чудом оно возникало, то помимо общения с семьей, где его с радостью ждали жена, дочка и маленький внучок, любил Лапшин подремать с удочкой где-нибудь на озерке или речке, коих в сибирских краях превеликое множество.
Ну, и выпить дома, как всякий русский, он мог, конечно. Иногда. И закусить, естественно. И неплохо закусить, поскольку и жена, и дочка готовили отменно. С годами, к сожалению, стал одолевать лишний вес. Перешел на диету. Шутил, что вместо ожидаемого похудания живота первым похудело то, что поправилось последним – лицо. Из спиртного в кабинетном сейфе всегда имелся хороший коньячок. Нет-нет, сам Лапшин на работе никогда не употреблял, исключительно для гостей…
Никто ни разу не видел его плачущим. Лишь однажды, после многочасовой борьбы за жизнь новорожденного, когда врачам пришлось всё-таки отступить, из операционной громыхая матами на всю больницу, вышел в коридор усталый Лапшин с еще неснятой повязкой на лице. Он кричал и грозил неизвестно кому, потрясая немытой окровавленной перчаткой… а глаза его над повязкой как-то странно влажно блестели и такая неизбывная боль в них была, словно ушел из жизни не маленький безымянный чужой человечек, а кто-то очень родной и близкий.
Что могло стать последней истинной причиной его ухода – так и осталось неизвестным, может быть, вся эта дёрганная, взбалмошная, какая-то неправильная жизнь, но в пятьдесят три года сердце Лапшина остановилось…
Прощание с доктором Лапшиным проходило в огромном зале местного Дворца культуры при громадном стечении народа. Пол возле покойного был покрыт алыми цветами вровень с гробом, в котором лежал вроде он, а вроде уже и не он, черты лица его заострились, и исчезло с них то, что делало его знакомым громыхающим Лапшиным.
Более же всего поражало воображение количество детей, пришедших на прощание со своим первым в жизни Главным Врачом. Их были многие и многие тысячи, их невозможно было сосчитать и даже увидеть всех сразу… Кого-то вели за ручку, кого-то везли в колясках, но были и те, кого просто несли на руках…
– Мама, а кто это такой там лежит?
– Дяденька Лапшин, сынок.
– А зачем мы здесь, мам? Тут так тесно, столько народу…
– Сейчас пойдём, сынок. Попрощаемся с доктором и пойдем, потерпи.
– А он что: уезжает куда-то?
– Да, сына, уезжает…
– И куда? В Африку?
– Дальше, сынок, далеко-далеко, там его ждёт много-много детишек, которым он должен помочь. Он уходит для того, чтобы они появились на свет… и пришли к нам…
Тимур Зульфикаров
Тончайшая вязь слов, то серебрящихся при свете луны, то ручейками золота сверкающих при солнечном, словно прозрачная многорукая лиана обвивает звенящее от любви пространство жизни. И течёт, вьётся, пульсирует, достигая неведомых прежде глубин сердца человеческого…
Мог ли знать я, зачитываясь когда-то историями о Ходже Насреддине, что однажды встречусь и подружусь с их потрясающим автором – Тимуром Касымовичем Зульфикаровым… Поэт, странствующий во всех временах и во всех мирах, принадлежащих Господину миров и времён, звезда первой величины, сияющая на небосводе поэзии… Его дух свободно перемещается в струящихся песках времени среди бескрайних барханов, громоподобных гор и дымящихся радужных водопадов.
Ловец искрящихся звёзд, он вглядывается в дрожащие огни дальних ночных городов и деревень сквозь жемчужные облака воображения и беседует с великими тенями минувшего: с Тимур-и-ленгом, с Иоанном Грозным, с ребёнком по имени Иешуа, с мальчиком Мухаммедом (да благословит его Аллах и приветствует!)…
Однажды в юности я узнал о нём от своего приятеля по имени Леонид (а было это почти сорок лет назад!), и с тех пор тайная мечта встретиться с ним, увидеть его воочию, услышать эту удивительную суфийскую речь мудреца и поэта – не покидала меня всегда и всюду.
И чудо всё-таки произошло! Через множество лет в гигантском городе, именуемом им Москвававилоном, мы встретились.…
Я услышал песни и стихи, произносимые им просто и торжественно, как и подобает устам шах-ин-шаха поэзии. Слуху моему и моим глазам предстали бесценные сокровища мысли и бездонные кладези чувств.
«Если жившему до нашей эры Катуллу вы покажете стихи Ахматовой, он поймет. Но он ничего не разберет, взяв в руки новомодный модернистский сборник, агрессивный и разрушительный. Подлинная литература – та, в которой есть золотой песок вечности, о чем тоскует все мировое искусство. Как пустыня, представляющая необъятную тоску песка по крупицам золота. Это то, что прочтут наши внуки, правнуки. Конечно, к Борхесу, Маркесу, Фолкнеру, Шолохову, Пастернаку госпожа Слава пришла при жизни. Теперь же она стала блудной девой, и ее покупают за деньги. Но не настоящую, настоящая за деньги не ходит. Она любит ходить за гробом. Слава – солнце мертвых,» – поведал мне однажды Мастер.
Его книги изданы миллионными тиражами. На Западе его именуют «Данте русской литературы». Дервиш? Мудрец? Волшебник? Суфий? Мыслитель? Странник во времени? Да. Всё так. Всё – верно.
Валерий Асатиани
Представьте себе огромный зал с выходом в сад, с длинными столами, покрытыми белоснежными скатертями, за которыми сидит множество шумного празднично настроенного народа – и стар, и млад. Столы эти ломятся от яств, от фруктов и бокалов, наполненных благородным грузинским вином. По стенам зала в любую его сторону висят телевизионные мониторы, транслирующие самые музыкальные фильмы о Грузии – «Хануму» и «Мелодии Верийского квартала» с Софико Чиаурели и Вахтангом Кикабидзе. Но самое интересное происходит не на экранах, а на широкой площадке перед столами: там под раздольное хоровое грузинское пение танцоры в красочных национальных костюмах исполняют самые любимые местной публикой грузинские танцы. И звучат песни. И льётся страстная и торжественная музыка. Это место в Тбилиси называется «Мухамбази». Здесь всё щедро пронизано грузинским духом. Так грузинская земля приветствовала только что прибывших участников проекта «По следам Аргонавтов» и международного творческого фестиваля «Визит к Музам»!
В зал стремительно входит высокий статный мужчина с букетом цветов в руках. Он в рубахе навыпуск – в стиле свободного художника. Это – Валерий Ростомович Асатиани. Букет – для именинницы. Так совпало, что именно сегодня – день рождения Ольги Цотадзе, одной из организаторов международного форума. За столом оживление – многие гости знакомы с Асатиани по предыдущим фестивалям, проходившим в Греции. Шутки, вопросы, воспоминания за столом нескончаемы, как, разумеется, и традиционно обильные красочные многоречивые грузинские тосты…
На следующее утро нас ждала новая встреча с Валерием Асатиани – доктором классической филологии и византинистики, профессором Тбилисского государственного университета. На этот раз – в зале ассоциации «Диалог культур», президентом которой он является. Блестящий оратор и знаток древнегреческого языка, Валерий Ростомович из уважения к времени собравшейся публики зачитывает лишь наиболее значимые фрагменты своей научной работы, посвящённой античности, Византии и грузинской культуре в свете бесчисленных мифов и легенд о походе Аргонавтов в Колхиду. Он справедливо ожидает и от присутствующих внимания к своему труду, и потому, когда кто-то начинает переговариваться во время чтения, несколько раз делает многозначительные паузы, возвращаясь к чтению лишь тогда, когда сторонние шёпоты смутившись умолкают. Выступлениям других участников он слушает самым тщательным образом, так, словно ему действительно интересно каждое слово, произнесённое в зале…
Возможно, в этом проявляется его богатейший опыт. Валерий Ростомович дважды за свою жизнь работал министром культуры Грузии. В общей сложности – десять лет! Первый раз – ещё в советское время – при Патиашвили с 1985 по 1990 годы. Вторично его пригласили в грузинское правительство при Шеварднадзе – с 1995 по 2000 годы. Что касается культуры Асатиани убеждён в том, что несмотря на всю критику, именно на времена СССР, на 70-80-е годы приходится пора подлинного ренессанса грузинского искусства.
Разумеется, множество значимых событий в новейшей истории и культуре Грузин произошло и в более близкие времена. Все их совершенно невозможно перечислить, но нельзя не упомянуть хотя бы о таких, как установление места захоронения останков величайшего святого – Максима Исповедника в Лечхуми, Цагери, у крепости Мори и издание в Англии шедевров Галактиона, переведенных на английский основателем Тбилисской школы Байрона Инессой Мерабишвили…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.