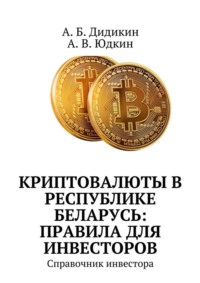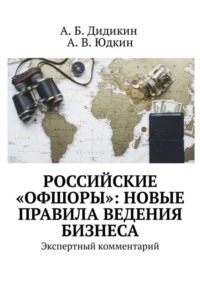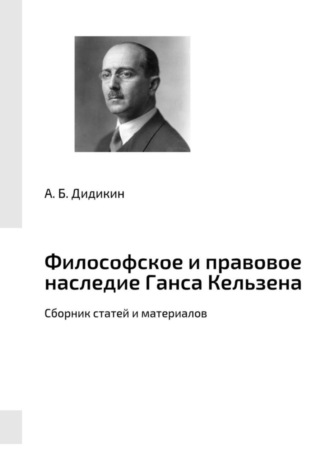
Полная версия
Философское и правовое наследие Ганса Кельзена. Сборник статей и материалов
Отсюда следует, что объектом юриспруденции как науки является система правовых норм, которые в процессе их применения выступают основанием для признания правомерности конкретных действий. Тем самым научные выводы должны соответствовать принципу объективности познания, который Г. Кельзен осмысляет традиционным образом как соответствие реальности: «Научные утверждения являются суждениями о реальности; по определению они объективны и независимы от желаний и субъективных оценок, потому что подтверждаются опытом. Они истинны или ложны». 17 18
Такое рассуждение позволяет рассматривать объект юриспруденции в качестве единого комплекса позитивных правовых норм, которые создаются действиями индивидов и в юридическом смысле являются актами правотворчества, и гипотетических правовых норм как критериев оценки поведения индивида.
БЫТИЕ И ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ
Модель объяснения Г. Кельзена основывается на специфической интерпретации феномена правовой реальности как объекта познания юридической науки. В ранний «австрийский» период творчества он стремится представить философскую интерпретацию соотношения категорий «бытия» и «долженствования» и их взаимодействия в процессе нормативного регулирования человеческого поведения: «различие между природной и правовой реальностями в том, что правовая реальность, которая описывается юридической наукой, состоит из фактов, имеющих – при условии, что действительность основной, непозитивной нормы предполагается – специфическое значение: значение позитивной нормы». 19
«Чистота» и правовых понятий и юридического метода обеспечивается, по мнению Г. Кельзена, тем, что право принадлежит сфере «должного», а значит правовое мышление имеет дело лишь с долженствованием, выраженным в содержании правовой нормы. В области онтологии Г. Кельзен рассматривает соотношение сфер бытия и долженствования и существование права в «царстве природы» и в поведении человека. Фактически он предвосхищает положения аналитической философии права об интерпретации любого правового явления через его отражение в языке правовых конструкций и человеческих действиях. В этом смысле правовое значение поведения как объективный смысл действий отличает их от природных явлений, подчиненных закону причинности. Поскольку норма представляет собой объективное значение поведения, а не эмпирический факт, она характеризует объективное содержание представлений, но не само представление и не результат представлений. И как отмечает Г. Кельзен, «норма функционирует в качестве схемы истолкования». Соответственно, результат нормативного толкования – суждения, наделяющие правовым значением акты поведения. 20 21 22
Но здесь возникает дуализм норм и реальных событий, поскольку «содержание реальных событий согласуется с содержанием некоей нормы, которая признается действительной», но в то же время сама норма создается актом, имеющим правовое значение в силу действия других норм. Чем же определяется содержание правовых норм? Долженствованием, которое конституирует нормативный правопорядок, но не только в значении «может», но и в смысле «имеет право». То есть правовая норма и предписывает и позволяет, может содержать как дозволения, так и запреты, что уже напоминает разграничение видов норм (или правил в командной модели права Дж. Остина).
Правовой акт выражается через жесты, символы, устную речь, письменные документы. А долженствование придает правовому акту смысл. И потому связующим звеном между нормой (долженствованием) и бытием (актом воли) является «действие». Тем самым Г. Кельзен вкладывает в понятие «бытия» гегелевскую идею о бытии права как наличном акте свободной воли. Формы правового бытия образуют «действующие» правовые нормы, а содержание правового бытия составляет поведение субъектов (действие, бездействие), которых нормы права наделяют правовым статусом и приписывают юридические свойства их действиям. Впоследствии у Г. Харта данное положение интерпретируется как аскриптивные правовые правила.
Следующим шагом Г. Кельзена становится преодоление онтологического дуализма сфер бытия и долженствования. Сознание постигает разницу между бытием и долженствованием таким образом, что содержанием долженствования является вовсе не «должное», а веления морального и правового порядка как совокупности волевых актов, предшествующих познанию. Здесь дуализм сохраняется, так как существование нормы отличается от существования природных явлений и волевых актов: норма «действительна» в правоприменении. Но Г. Кельзен отмечает, что дуализма нет, ибо «нечто» таково, каким оно должно быть. «Нечто» в одном случае «есть» и соответствует «чему-то», что в другом случае «должно быть». В этом смысле не обоснованны мнения отдельных авторов о том, что «нормы долженствования» Г. Кельзена «не имеют дела с реальными процессами». Действительностью норм является фактическое поведение на основе этих норм. А содержание бытия характеризуется взаимной направленностью долженствования на бытие и нормы на фактическое поведение, что означает равенство содержаний бытия и долженствования, но не их тождество. Разница «в модусе: бытие в одном случае, долженствование – в другом». Тем самым необоснованным является мнение отдельных авторов о том, что в нормативизме правовые нормы представляют собой «пирамиду независящих от сущего норм», поскольку иерархия норм как раз связывает между собой «должное» и «сущее». Долженствование образует субъективный смысл акта воли, но при совпадении нормативного предписания и реального поведения норма приобретает объективный смысл в случае восприятия такого совпадения двумя и более лицами. В этом и состоит отличие, например, требований должностного лица от требований грабителя (пример Г. Кельзена, обсуждаемый в теории Г. Харта). Таким образом, дуализм бытия и долженствования имеет не онтологический, а логический характер. 23 24 25 26
ОСНОВНАЯ НОРМА И ЛОГИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ НОРМ
Гносеологический и правовой аспекты теории Г. Кельзена составляет концепция логической иерархии (ступеней) норм в правовой системе. При этом нормативное единство правопорядка достигается на основе субординации правовых норм. Что же обеспечивает субординацию? Вслед за Г. Когеном и его идеей «государства как формы права» Г. Кельзен считает, что государство не принадлежит эмпирической реальности, а соответствует определенному правопорядку, персонифицируя его. То есть помимо субординации нормативное единство правопорядка обеспечивается предположением о существовании «основной нормы».
Здесь используется гипотетико-дедуктивный метод, поскольку «основная норма» априорна, но имеет прообраз в социальной сфере в виде реально действующих правовых норм. «Основная норма» – это допущение, обосновывающее «объективную действительность нормы, которая к чему-то обязывает». Но в отличие от априорного категорического императива И. Канта у «основной нормы» отсутствует определенность, то есть неясно ее происхождение, природа, содержание и носитель: «с тех пор как такая норма была признана, мы отказываемся от поиска причин ее действительности, мы считаем ее установленной и рассматриваем ее как самоочевидную». Данная норма – вершина и основа динамики правопорядка, а ее теоретико-познавательная функция превращает ее в трансцендентально-логическую категорию. Впрочем, рассуждения Г. Кельзена о поиске примеров «основной нормы» в конечно итоге сводятся к конституционным нормам: «это норма, допускаемая нашим юридическим мышлением, и она не может быть нормой вследствие акта воли определенного индивида, если мы рассматриваем Творцов Конституции как наивысшую юридическую власть, и с позиции юридического позитивизма не допускаем более высокой, сверхчеловеческой власти, например, Бога или Природу, диктующую нам нормы, исходящие от Творцов Конституции». 27 28 29
Анализируя понятие основной нормы у Г. Кельзена, можно провести сравнение с феноменологическим учением Э. Гуссерля. Э. Гуссерль утверждал, что научная логика является нормативной потому, что ее цель состоит в том, чтобы оценить, в какой степени данный закон или иные меры соответствуют собственной идее. Тогда логика одновременно оценивает дисциплину по отношению к ее идеальной форме и развивает ее в этом направлении. В случае с нормативизмом Г. Кельзена комплексное утверждение о том, что закон должен быть «чистой теорией норм» предполагает, что один подход к праву может быть «чище», чем другой, и что могут существовать подходы, которые не «дотягивают» даже до минимальных требований «чистой теории права». Кроме того, оценка различных подходов к праву подразумевает, что «более чистый» подход в некотором роде «лучше», чем подход, который «менее чист»: он, возможно, «более точный», «более приемлемый», «более научный» и т. д. В целом, эти оценки и суждения являются нормативными постольку, поскольку они говорят о том, какой правовая дисциплина «должна» быть. 30
Для Э. Гуссерля эти оценки и суждения вместе образуют нормативную иерархию видов норм, очень похожих на кельзеновскую пирамиду правовых норм, где действительность нижестоящих норм выводится из вышестоящих норм. И точно также как Г. Кельзен, Э. Гуссерль утверждает, что для того, чтобы оставаться последовательно «логичным», мы должны предполагать существование «базовой нормы», гипотетической и даже фиктивно высшей нормы на вершине иерархии. Эта норма будет первопричиной и источником всей нормативной действительности в структуре. Основная норма не «существующая» норма, но, опять же, необходимая предпосылка в любой нормативной дисциплине. 31 32
На этом сходства между феноменологией и нормативизмом заканчиваются. В отличие от Г. Кельзена, Э. Гуссерль характеризует свою основную норму двумя различными функциями. Во-первых, основная норма имеет «регулятивную» функцию. В случае логики, основная норма устанавливает действительность, с которой различные нормативные оценки и суждения в рамках иерархии могут выполнять свои функции и направлять данный подход к идеальной форме научной дисциплины. При помощи этого основная норма создает единство и связанность в рамках научной дисциплины. Г. Кельзен воспринимает «основную норму» с позиции аналитического подхода – ее гипотетичность имеет не метафизический, а логический характер. 33
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В этом смысле представляется необоснованной характеристика Г. Кельзена как «логического позитивиста» Венского кружка без анализа неокантианской составляющей нормативизма (См.: Золкин А. Л. Аналитическая школа права и аналитическая философия // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2005. №2. С.63).
2
См.: Антонов М. В. Чистая теория права Ганса Кельзена – 50 лет спустя // Российский ежегодник теории права. 2010. Вып. 3. С. 812—825; Антонов М. В. Чистое учение о праве: варианты перевода и интерпретации // Российский ежегодник теории права. 2011. Вып. 4. С. 499—510.
3
См.: Познер Р. Кельзен, Хайек и экономический анализ права (пер. под науч. ред. М. В. Антонова) // Российский ежегодник теории права. 2010. Вып. 3. С. 181—208; Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. Пер. с англ., нем., фр.; сост. и вступ. ст. М. В. Антонова. СПб, 2015.
4
Краевский А. А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена в ранний американский период // Российский ежегодник теории права. 2009. Вып. 2. С. 429—432; Краевский А. А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и аналитическая философия // Российский ежегодник теории права. 2010. Вып. 3. С. 790—812.
5
См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. Сборник переводов. Т.1—2. Москва, ИНИОН, 1987; Кельзен Г. Динамический аспект права // Конституция и власть. Сб. трудов. Москва, 1999; Кельзен Г. Чисте правознавство. З додатком «Проблема справедливостi». Киiв, 2004; Кельзен Г. Судебная гарантия Конституции (конституционная юстиция) // Право и политика. 2006. №8. С. 5—14. №9. С.5—18.
6
См.: Коваль, Д. Международно-правовые идеи Ганса Кельзена и современные политико-правовые процессы в Украине // Украiнський часопис мiжнародного права. 2014. №1—2. С. 68—72.
7
См.: Kelsen H. Platonic Justice // Ethics. 1938. Vol. 48. №3. P. 367—400
8
См.: Kelsen H. The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy // International Journal of Ethics. 1937. Vol. 48. №1. P. 1—64.
9
Kelsen H. The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy // International Journal of Ethics. 1937. Vol. 48. №1. P. 10—11.
10
См.: Кельзен Г. Абсолютизм и релятивизм в философии и политике (см. раздел «Переводы» настоящего издания).
11
См.: Kelsen H. Science and Politics // The American Political Science Review. 1951. Vol. 45. №3. P. 645—665.
12
См.: Kelsen H On the Basic Norm // California Law Review. 1959. Vol. 47. №1. P. 107—110. См. перевод этой статьи в разделе «Переводы» данного издания.
13
См.: Kelsen H. Foundations of Democracy // The American Political Science Review. 1941. P. 1—101.
14
См.: Антонов М. В. Чистое учение о праве против естественного права? // Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. СПб, 2015. С.40.
15
Кельзен Г. Причинность и вменение // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015. Т. 9. Вып. 2. С. 273.
16
Там же. С. 273.
17
«Юриспруденция как наука о праве содержит позитивные нормы в качестве объекта исследования. Только позитивные нормы могут быть объектом науки права. Это принцип юридического позитивизма, противоположный естественно-правовой доктрине, которая пытается представить юридические нормы не созданными действиями людей, а дедуцируемыми из природы. Чтобы дедуцировать нормы из природы, следует сказать, нужно рассматривать природу в качестве законодателя, предполагая, что природа создана Богом и является проявлением Его воли, которая есть абсолютное добро. Отсюда естественно-правовая доктрина представляет собой не науку, а метафизику права. Позитивное право может быть национальным правом, правом определенного государства, основанным на его конституции и созданным действиями законодательной власти, установленными конституцией; или международным правом, создаваемым обычаем, в том числе обычной практикой государств, основанной на предположении, что государства должны вести себя так, как они обычно ведут себя, такое предположение является основной нормой международного права» (Kelsen H. Science and Politics // The American Political Sci-ence Review. 1951. Vol. 45, No. 3. P. 647—651).
18
Kelsen H. Science and Politics // The American Political Science Review. 1951. Vol. 45, No.3. P. 648.
19
Ibid. P. 648.
20
См.: Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник переводов. Вып.1. М.,1987. С.12.
21
См.: Wilk K. Law and State as Pure Ideas: Critical notes on the basic concepts of Kelsen’s Legal Philosophy // Ethics. 1941. Vol. 51. №. 2. P.165.
22
См.: Jansen H. Kelsen’s Theory of Law // The American Political Science Review. 1937. Vol. 31. №. 2. P.207.
23
«Из того, что нечто есть, не может следовать, что нечто должно быть» (Кельзен Г. Динамический аспект права // Конституция и власть: сравнительно-исторические исследования. Проблемно-тематический сборник. М.,1999. С.144).
24
Желтова В. П. Философия и буржуазное правосознание. М., 1977. С.36.
25
Чистое учение о праве Ганса Кельзена. С.15.
26
См.: Ваина Е. В., Курчеев В. С. Нормативистская теория права Ганса Кельзена как пирамида независящих от сущего норм // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «Право». 2009. Т. 5. Вып. 2. С. 17.
27
«Основную норму – как ее описывает правоведение – можно назвать трансцендентально-логическим условием истолкования» (Кельзен Г. Динамический аспект права. С.155).
28
Kelsen H On the Basic Norm // California Law Review. 1959. Vol. 47. №1. P. 109.
29
Ibid. P. 110.
30
См.: Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. Пролегомены к чистой логике. М., 2011. С. 40—41.
31
Такой вывод следует из интерпретации Э. Гуссерлем логики как наукоучения и применимого к нему понятия «базовой нормы». См.: Гуссерль Э. Логические исследования. С. 41.
32
См.: Пантыкина М. И. Право-структура и право-процесс как формы бытия права // Философия права. 2008. №5. С. 37—38.
33
См.: Пантыкина М. И. Феноменология права и интегративное правопонимание // Общественные науки и современность. 2014. №3. С. 152—153; Пантыкина М. И. Феноменологическая методология: опыт исследования права. Екатеринбург, 2009.