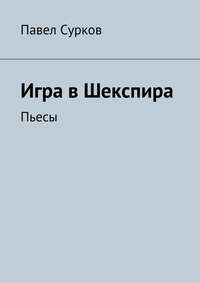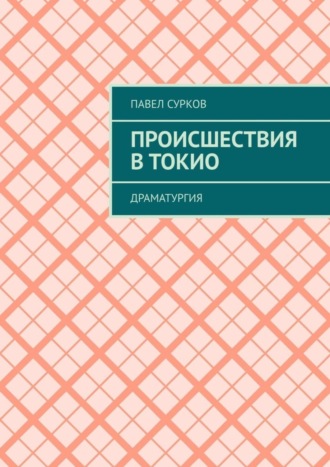
Полная версия
Происшествия в Токио. Драматургия
(). А если бы я взаправду сказал, что могу увидеть вашу судьбу – поверили бы? Захотели бы узнать? Гаврила его голос меняется, от старческого дребезжания не осталось и следа
. Поверила бы? Да я и так вам верю. Чего только не бывает на свете, какие только чудеса Господь не сотворяет. А знать? Нет, пожалуй, что не хочу. Мария
. Это правильно. Тем более, что испытания вам предстоят суровые. Не могу не сказать – должен: просто знайте, что за всякой болью и страхом всегда есть свет и надежда. Вот то, что вы должны знать, Мария Николаевна, верьте этому и помните мои слова. Гаврила
. Я запомню. Мария
. Хорошо (). Гаврила улыбается, кивает
() Затемнение
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
() входят Николай и Боткин, они ведут спокойную, очень рассудительную беседу
. Я согласен с вами, государь, на первый взгляд этот новый комендант производит впечатление порядочного человека. Во всяком случае, куда более порядочного, чем этот пьяница Авдеев, его предшественник… Боткин
. Евгений Сергеевич, я же просил вас не употреблять титула, который мне уже не принадлежит. Государя больше нет, перед вами – Николай Романов… В целом, даже и не знаю, кто такой… Помните перепись? Там, в опросном листе, был один пункт – я его запомнил: «Главный промысел, занятие, ремесло, должность или служба». Знаете, что я написал в этом пункте? Николай
. Нет, госу… Николай Александрович. Боткин
(). Вот, так-то звучит и лучше, и честнее… так вот, Евгений Сергеевич, написал я в этом пункте, ничтоже сумняшеся, «хозяин земли русской». Да-да, прямо так и написал. А сейчас – оглядываюсь в те дни и понимаю, насколько я был юн, прост и наивен. Хозяин земли русской… Мне досталась земля, которую я не смог сберечь! И что мы получили? Тесные комнаты в полтора окна, тяжкий крест, который должен влачить я, как государь, что не справился, что не сдюжил, а влачит его вместо этого моя семья… Евгений Сергеевич, вы думаете, что я чего-то боюсь? Николай одобрительно
. И в мыслях такого не держал, Николай Александрович! Боткин
. Нет, я ничего не боюсь, вообще ничего – ни смерти, ни позора, ни бедности… Приму любую судьбу – я ее заслужил, я достоин ее, но при чем тут они? Аликс, дети, они же никому ничего плохого не сделали, а принимают все эти муки наравне со мной – и сделать с этим я ровным счетом не могу ничего… Николай
. Они – ваши дети, госуд… Николай Александрович. Они достойны своего отца, и я просто поражен, сколько сил в этих юных людях, с каким достоинством они переносят все тяготы… Боткин
. Да-да, конечно… Вот только от понимания этого никому не становится легче. А самое страшное во всей этой ситуации – это осознание безысходности и обреченности. Понимаете, Евгений Сергеевич, когда Рузский тогда пришел ко мне за текстом отречения – я даже некоторым образом успокоился, вздохнул свободно, словно гора с плеч свалилась. Мишель ведь с самого рождения был куда более годен для престола, нежели я – и отец его больше любил, и играл с ним не переставая… Но все остальное… Для всего остальное, с первого взгляда, был создан я – наследник цесаревич, старший сын. Сын, которого его собственный отец не желал видеть наследником. Николай
. Но никто не отменял права престолонаследия. Увы, есть вещи, которые намного выше нас, больше нас, главнее нас… И наш долг – принять это со смирением. Боткин
. Легко говорить про смирение – так как легко это смирение понять. И есть еще искус – есть то, что посылается нам для испытания нашей крепости, наших сил. Я, признаюсь вам, Евгений Сергеевич, очень долго надеялся, что народ – те люди, для которых я жил, ради которых каждое утро просыпался и чьими судьбами жил – я не верил, что эти люди могут отречься от своего государя. Николай
. Но, простите меня, Николай Александрович, от государя можно очень легко отречься – если знать, что до этого государь отрекся от тебя. Боткин
. Но я не отрекался от людей. Я отрекался от собственной власти – а сделал я это именно ради них, ради страны… Николай
. И вы ждали, что люди оценят это? Боткин
. Я должен сказать «нет», хотя бы из благородства или самоотверженности – но, увы, я вынужден сказать «да». Да, я ждал, где-то в глубине души я даже верил в то, что люди не оставят меня. И даже эта провокация… Николай
. Какая именно провокация? Боткин
. Я же рассказывал вам… Письма. Нам подбрасывали письма – от какого-то верного офицера. От какого-то человека, который, якобы, мог помочь мне сбежать. Крупицы надежды, ложность которых была мне ясна. Николай
. Как же вы это поняли? Боткин
. Чрезвычайно просто. Эти письма были написаны якобы верным мне офицером. Но в этих письмах аноним называл Алексея «царевичем». Вы же понимаете, что офицер, дворянин, никогда бы так не сказал… Он бы сказал – «цесаревич»…. Николай
. То есть… Боткин
. Да, кто-то из наших тюремщиков или того хуже – стоящих над ними, решил устроить нам эту отвратительную, хотя и тонко организованную провокацию. Чудовищную… Чудовищную потому – что она давала нам надежду. Крупицу надежды. Надежды на освобождение от пленения. Я понимал, что мне суждено изгнание – мне и всей моей семье. И я… Был ли я к этому готов? Не знаю… к изгнанию, к эмиграции, к тому, чтобы оставить Россию – да. Но вот к этому… Николай
. Ты ли это, друг мой? Николай
. Я, папенька. Распутин
. Но ведь… Я же сам видел тебя мертвым, ты же был убит, тогда, в Петербурге… Николай
. Да что нам смерть! Ты же сам не раз говорил, что в Бога веруешь? Распутин
. Верую. Николай
. Ну и вот – раз веруешь, значит, знаешь, что нет никакой смерти, а есть жизнь вечная, что нам Боженькой дана. Он добрый, Боженька, вона, в меня из пистоля палили-палили, больно было – страсть! – а он смилостивился и упокоил. Таперича не болит ничего, а что грудину продырявили, да нос набок свернули – мне-то оно сейчас вообще ни жарко, ни холодно – чай, не под венец. Так что ежели веруешь в Боженьку – то в смерть верить не нужно. Нету ее, смерти-то. Распутин
. Верю… Но слаба моя вера, видимо… Потому как – страшно мне. Николай
. А всем страшно. Умирать – завсегда страшно. Распутин
. Умирать? Николай
. Ну а сам-то как думаешь? Для чего тебя держат тут, за семью замками? Правильно, чтобы напугать. Чтобы за страхом своим не упомнил ты ничего, потерял бы разум. И бороться с этим – есть лишь один верный способ. Распутин
. Какой же? Николай
. Одно помнить: не властен никто над тобой на земле. Никто не может тебя запугать да уничтожить. Что они сделают с тобою? Убьют? Да подумаешь – душа-то она вечно живая, ей только в радость скорлупу бренную стряхнуть, да и помчится, аки птичка. Встряхнется – и полетит, душа живая-то. Распутин
. Понимаю. Все понимаю. И верю, но… Николай
. Веришь да не веруешь. Бывает. Так сила веры-то и проверяется. Распутин
. Скажи тогда, зачем мне все эти проверки? Разве надо меня еще раз за разом проверять? Николай
. Ну а как же? Господь – он такой. Он нас ежеминутно, да что там – он нас секундочку каждую испытывает. На то Он и Господь. Распутин
. А если я не выдержу испытание? Николай
. Так не всякий и выдерживает. Распутин
. И что бывает с тем, кто не выдерживает? Николай
. Да со всеми по-разному. Вот я, например, не выдержал – и вынужден тебя сторожить, приглядывать за тобой, да сделать что-либо – увы! – не могу. Распутин
. Почему? Николай
. Недозволительно. Только смотреть могу – ты, папенька, как за стеклом, все вижу, все беды, что на тебя ниспадают, да ничего поделать не в силах. Как из-за стекла: кричу до хрипоты, мол, погляди же, охолонись – вон оно, за твоей спиной, а ты не видишь, не слышишь, своей дорогой идешь, а опасность, беда, вот она, рядом! А ты ее не замечаешь – тебе крах необратим, а мне мучение на тебя глядеть…. Вот наказание мое какое… Нестрашным кажется? А у меня сердце на части рвется – и так болит, а тут вообще словно вострым ножом его кромсают… Понимаешь, папенька? Распутин
. Понимаю, друг мой. Николай
. Сердцем слушай… До сердца твоего я постараюсь достучаться, туда позволительно говорить мне, туда, не в уши, но к сердцу твоему прямиком… И если услышишь – глядишь, и спасешься… А не услышишь – сгинешь насовсем. Распутин
. Сгину? Николай
. И не один. Всех, всех за собой потянешь. Всю семью уведешь за собой. Всех. Распутин
. Всех? Николай
(). Всех… Распутин кивает
. И как же мне все это остановить? Как спасти – не себя, нет, их всех! Всех… Николай
. Всех не спасешь… Да ты и не сможешь уже никого спасти… Даже себя… Даже… () Распутин медленно отходит в глубь сцены и исчезает
. Но… Но… Но почему?… Николай
. Потому что уже все кончено. Голос Распутина
. Ишь, раскудахтался, бродит тут, людей смущает… Гаврила
. Простите?… Николай
. Да я говорю, бродит тут, людей смущает, дурак такой. Гаврила
. Простите, вы это о ком? Николай
. Да о нем, о Гришке, с которым ты сейчас разговаривал. Гаврила
. То есть… Вы тоже – слышали? Николай
. Да как не слышать. На весь двор, чай, голосили, попробуй тут не услышать. Гришка – он такой, и при жизни был шумный, а после смерти так совсем уж… расшумелся. Но ты, братец, не думай – не все, что он говорит, разумно. И уж точно не все, что он говорит, – истина… Гаврила
. А что же тогда такое – истина? Скажи мне… Николай
. Истина? Да вот, например, то, что сейчас начинается дождь. Пойдем-ка, братец, в дом. А то… Хватит тебе еще сырости… Гаврила
. То есть? Николай
. Ну, сырости в жизни нашей полно. Из сырой утробы вышли – в сырую землю легли. Каждому – один путь, тут ничего не переменится. Гаврила
. «Нагим ушел я в этот мир – нагим и уйду из него»? Так, выходит? Николай
. Тут по-разному бывает. Вона, в стране египетской, я читал, цари тамошние, фараоны, за собой на тот свет чего только не тащили – от золота до кораблей цельных. Не гробницы себе строили, а дворцы целые – пирамидами называются. Слыхал? Гаврила
. Слыхивал. Видывал даже. Николай
. Ну, вот. Раз видывал – то понимаешь, что да к чему. Думали они, фараоны енти, что после смерти со всем золотишком прямиком на тот свет отправятся, ан нет. Так и пошли, в чем были. Без злата-серебра. Давай-ка в дом, а то намокнем еще, простынем… Не надо нам болеть, ох, не надо… Гаврила
(свет гаснет на Боткине, Николай остается один, слышится грубый мужской голос)
. А я же предупреждал тебя, папенька. Голос(Николай резко оборачивается на голос – свет вычерчивает массивную фигуру Распутина)
Николай в ужасе застывает на сцене, из левой кулисы медленно выходит Гаврила.
(Оба уходят, Гаврила слегка панибратски обнимает Николая – тот совершенно не сопротивляется)
КАРТИНА ПЯТАЯ
(Мария проходит вдоль сцены, вдруг ее резко останавливает вышедший из кулисы Юровский)
. Мария Николаевна, я попрошу вас задержаться. Юровский
. Да, я к вашим услугам. Мария
. Вам не кажется, что в последнее время ваш отец стал как-то нехотя общаться со мной? Юровский
. У вас сложилось такое впечатление? Мария
. Увы, Мария Николаевна, сложилось – и это впечатление, я доложу вам, не сулит ему ничего хорошего. Есть такое слово «сотрудничество» – понимаете, что я имею в виду? Юровский
. Понимаю. Но, боюсь, ничем вам помочь не смогу. У пап есть свой собственный взгляд на вещи, и если ему что-то не по сердцу – его не просто трудно, его невозможно переубедить. Мария а
. Я не прошу его переубеждать. Я прошу довести до его сведения. Ухудшение общения с караульными – это неправильное поведение. Юровский
. Вы думаете, в нашем положении стоит рассуждать о том, что правильно, а что нет? Мы просто живем – и пытаемся жить по совести. Не более того. Мария
. По совести? А когда ваша поганая семейка столетиями гнобила рабочий класс, угнетала крестьянство – это тоже было по совести? А?! А?! Юровский
. Вы хотите, чтобы я ответила вам за дедов своих и прадедов? Ну что же – извольте! Я скажу. Моя семья столетиями молилась за свой народ и делала для него все, что могла. Но если эти люди, если этот народ не видит доброты, которая дается ему, не видит протянутой руки, а бьет – то дубьем, то дрекольем – по той самой руке, что намерена его спасти, ему помочь, то, может, этот народ достоин той судьбы, которая его ожидает. Посмотрите за окно, господин комендант, что вы там видите? Мария
. Я вам не господин! Юровский
. Ну хорошо – товарищ комендант. Что вы видите? Вы видите там грязь, холод, разруху и кровь. Вы считаете, что тот народ, за который вы столь, по вашим словам, радеете, достоин именно этого? Что ж тогда извольте получить! Мария
. В чем дело? Что смешного в моих словах? Мария
. В ваших? Ничего смешного. Я смеюсь над вашей уверенностью… Над вашей строгостью… Посмотрите сами на себя, девчонка, просто девчонка… Мария Николаевна, вы понимаете, что вы в моей власти? Что я могу вот прямо сейчас одним пальцем, одним кивком головы… Юровский
. Что вы можете? Что вы можете сделать? С моим телом – все, что угодно, я читала в книгах… Я знаю… Но с моей душой… Мария
. Душа… Где она у вас, душа, Мария Николаевна? () Здесь? () Или – здесь? () Где? Юровский достает наган приставляет дуло ей к виску приставляет дуло к сердцу
. Если бы можно было показать, где – какая же это была бы душа? Мария
. Демагогия, демагогия, все демагогия! Вы истинная дочь своего отца, сплошная демагогия… Только бы заболтать народ, только бы отвлечь его от переживаний… Что вы на меня смотрите, Мария Николаевна? Вы думаете, я вас убью? Юровский
. Прикажут – убьете. Вы же сами ничего не можете решить, все ждете приказа. Мария
. Это верно. () Это вы правильно подметили – я человек не столько подневольный, сколько послушный. И если моя партия прикажет мне убить человека – я это сделаю. Я буду карающей рукой партии, и не стоит считать меня убийцей. Юровский убрал наган
. А вы не убийца. Вы палач. И это куда хуже. Убийца убивает по душевному порыву, а палач – по долгу службы. У палача, в отличие от убийцы, вообще нет души. . И снова вы о душе… Ох, затеяли мы с вами, Мария Николаевна, теологические споры – есть душа или нет ее… Я вот лично считаю, что нет в этом проку никакого: ни в душе, ни во всем остальном. Надо дело свое делать, ради всеобщего блага. Мария Юровский
. И убивать людей – если прикажут? Ну, ради блага-то? Мария
. Если ради блага… Юровский
. Тогда скажите мне, чем вы отличаетесь от нас? Только что вы говорили, что ненавидите весь мой род за то, что он столетиями убивал якобы невинных своих подданных. А если эти убийства совершались ради всеобщего блага – так в чем разница? Мария
. Не ради всеобщего. Знаю я такую уловку, не на того напали, Мария Николаевна! Предки ваши – да что там предки, и батюшка ваш драгоценный! – все делали не за ради всеобщего блага, а за ради своей собственной выгоды, да личного богатства. Казну наполняли, гребли под себя золото-бриллианты… Юровский
. Много нагребли-то? Мария
. А то сами не знаете! Без счета. Когда вошли в ваш Зимний дворец – ох, мне революционные матросы много чего рассказали, каких только вещей они там не разыскали! И вазы, и картины, и посуда… Все, все укрывали от народа! Юровский
. Да? Укрывали? А то что в музей кто угодно мог войти и посмотреть – и на картины, и на статуи, и на вазы? Про это вам ваши революционные матросы забыли рассказать? Мария
. Так кто зайти-то мог? Буржуй! Эксплуататор! Угнетатель! Юровский
. Простите, там не было ценза «на эксплуататоров»… Ах, господин комендант, по-моему, благодаря вашим революционным матросам у вас в голове заквасился такой безумный хмель, что… Нет, форменным образом, уму непостижимо! Мария
. Вы правы… И вправду, бред какой-то… Что я тут делаю – объясняю глупой девчонке, да еще и дочери царя, что такое рабочий класс и чем он живет… Да мне это лошади проще объяснить – она быстрее поймет. Юровский
. Тогда идите и объясняйте лошади, не смею вам мешать! () Мария разворачивается и порывается уйти
. Мария Николаевна, подождите… Юровский
. Что вам еще? Мария
. Последнее предложение. Я хочу сделать вам последнее предложение. Юровский
. Какое же? Прицепить к шляпке красный бант? Или выучить – кого вы там читаете? – Маркса? Бабефа? Дантона? Мария
. Мария Николаевна, я хочу вас попросить… Будьте осторожней. Из всей этой семейки лишь вы да несчастный царевич внушают мне хоть какую-то да надежду… Юровский
. Чем же, интересно знать, мы вас обнадежили? Мария
. Тем, что вы – живые. Куда более живые, чем вся ваша семейка, вместе взятые… Жалко, жалко… Юровский
. Что вам жалко? Нас? Так не надо нас жалеть, нас другие пожалеют и помолятся о нас! Мария
. Ну, кому молитва, а кому – предупреждение… Да, Мария Николаевна, вот так… Молитва, конечно, силу-то имеет, но… Порой пуля-то и посильнее молитвы будет. Юровский
. Ничего нет сильнее молитвы. Мария
. Это мы поглядим, поглядим… Ступайте, Мария Николаевна, ступайте… Если верите в молитву – что ж, молитесь. Молитесь, Мария Николаевна, раз только молитва и может вам помочь… () Юровский медленно отходит, поигрывая наганом, потом уходит со сцены
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.