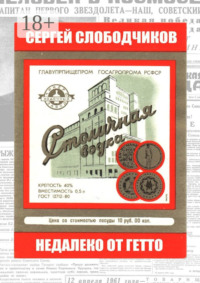Полная версия
Отче
***
Отчаяние. Я нес его в себе. Прятал от людей. Как сказал бы Фрейд, я его подавил, спрятал в себя.
Кто услышит немой плач ребенка, который учит-
ся в третьем классе, еще не постиг страдание и потому, кажется, не может страдать? Кто так молод и так неопытен, но так чувствителен и раним, кто уже с детства обладает большой восприимчивостью и огромной фантазией, изучая себя самого, в противовес тем детям, которые открыты миру и все новое познают с радостью? Я все новое познавал с грустью, с нежеланием этого познания. Куда приятнее рисовать воздушные замки. Этим рассказом, пожалуй, спрячусь я в чужую голову, к человеку, что прочтет его, дабы там жить бесцветным призраком. Так переношенный ребенок прячется в матке, не желая познавать этот мир, борясь за то, чтобы навсегда остаться внутри женщины или родиться мертвым. Я хочу жить призраком в голове читателя. Я хочу родиться мертвым. Сейчас, как никогда, до слез, до крика, стоя у черты, я ощущаю глубокую потребность в объятиях, но, если Бог не дал мне объятий, пусть ими станет голова чужого, незнакомого мне человека. Я буду счастлив от осознания того, что кто-то приложит усилия, чтобы понять меня.
Я возвращался из школы домой, когда солнце садилось за горизонт, растворяясь тонкой красной полосой в пыльной городской дымке. Когда птицы прятались по крышам, а от мороза трещали деревья. Собаки тоскливо жались по колодцам. Люди серыми тенями спешили с работы домой. Я учился во вторую смену. Зимой темнело в пять вечера, и на последних уроках в окна класса закрадывалась тьма. На небе, затянутом снежной дымкой, было видно мерцание проступающих, еще бледных звезд, а луна боролась с солнцем. Гремел последний звонок, и я не спеша выходил на улицу, выпуская изо рта клубы пара. Мимо меня летели дети, которые радостно бежали домой, чтобы воссоединиться со своей семьей. Чтобы там спрятаться от скучных уроков, чтобы в родительской любви и ласке забыть серые лица учителей. Чтобы разделить ужин с популярной передачей «Спокойной ночи, малыши». Чтобы увидеть свои чудесные сны как повторение дня, в грезах рождая мечту о своей будущей жизни. Прекрасные дети, вы как мальки кеты, ведомые инстинктом, возвращаетесь в океан. Еще не озабоченные, еще чистые. Живущие в предвкушении будущих грехов, таящих в себе сказочные наслаждения. Искренне жестокие.
Я был одет в пальто, и теплые варежки болтались на резинках, которые проходили через оба рукава. На ногах я носил черные валенки, тогда все дети ходили в них. И благо, если у валенок была резиновая подошва: можно было кататься по льду. А без нее они не скользят.
Школу я не любил. В ней я откровенно скучал, все казалось мне тут ненужным, неспособным занять мой разум. Я любил сидеть и фантазировать на задней парте, все время поглядывая на часы, висевшие в классе, и рисовать. Я изрисовывал тетрадку за тетрадкой, а когда меня вызывали к доске, я отчаянно молчал, не в силах ответить на простые вопросы. Все потому, что я не слушал учителей, не знал, о чем идет речь. Гораздо интереснее было вернуться за парту и снова рисовать, порой даже в учебниках, которые в то время были казенные и выдавались в школьной библиотеке. Я получал свое наказание молча, мне чертили красной пастой двойку или жалобу, и я был свободен. Больше двоек меня пугало лишнее внимание, когда весь класс смотрит на меня. Учителя, конечно, этого не знали. И я готов был получать двойки, лишь бы не выходить к доске вовсе. Мне не нужно лишнее внимание и блага мира, которые сулят хорошие оценки. Если я и думал о будущем, то о будущем столь далеком, где от меня не останется и памяти.
Лучшее время было после школы, когда я позволял себе гулять, валяться в снегу, изучать кварталы, дороги и стройки. Пусть в потемках, зато так сильнее разыгрывалось мое воображение. Я валялся в полном одиночестве в снегу на болоте и смотрел, как черные ветки редких деревьев кромсают небо. Как самолеты моргают светом и летят в неизведанные страны. Как снежинки ложатся на мое тело, покрывая меня зимним саваном. Как тает мое время, как неизбежно и тихо, словно смерть, приближается мое мучение, моя пора возвращается туда, где я заикался и мочился от страха. Где я не раз сотрясался от горя и застрявшего комом крика, где я разучился говорить, но научился мечтать. В мой городской дом.
Проблема не новая, многократно описанная, но от банальности ее мне было не легче. Я боялся отца. Надо мной смеялись учителя, им было не понять моих страхов. Думаю, и мать не понимала. Наверное, на самом деле это были глупые страхи. И глупо было так переживать. И надо было быть спокойнее. Но тогда это нечто казалось мне трагедией, как порой ею кажется то, что мы называем бурей в стакане. Но я не могу дать точной оценки моим страхам. И я не мог никому их объяснить. Я не мог выговориться, излить свой страх. Я просто порой мечтал сбежать из дома. Идти, куда глаза глядят. Вся моя агрессия сводилась к желанию бегства. Но я был слишком мал, чтобы принять столь серьезное решение. Я слышал, что многие дети убегают из дома, подсознательно ищут невидимую цель, они не понимают сами этой цели, но ощущают внутренне, что нужно идти. Они сбегают, попадают в милицию, снова сбегают, попадают порой в детский дом, где учат недетским правилам игры, и, если человек с возрастом так и не осознает своей цели, то мечется по жизни от сумы до тюрьмы. В то время, конечно, я не мог подвергнуть себя глубокому анализу, это позже я понял, зачем заглядывал в окна и что искал там. Я искал то, что хотел обрести любой ценой. Все звезды мои, я и сам излучал свет звезды для многих, но не было лица, что светило бы для меня. Во всех окнах я видел отражение своего кошмара. Хотя были окна, где пахло карамелью и зимним праздниками, но и там я видел те же самые мелочи, которые делали любое существование отвратительным.
Мы жили в однокомнатной квартире на втором этаже, мать, отец, бабушка и трое детей. Играть в этом доме можно было, только запершись в ванной, либо днем, если нет родителей, они на работе, а ты заболел и тебе не нужно идти в школу. В остальное время ты должен быть спокоен, жить внутри себя своей жизнью. Вечером, сидя на полу, смотреть программу «Время» со всей семьей, либо на кухне по очереди делать уроки. Любой громкий крик или разговор приводил к вспышкам агрессии у родителей. Нам было тесно, как курам в клетках, как собаке в будке на цепи. Мы были детьми и постоянно дрались, а мать нас разнимала. Спали вповалку на диване, а мать с бабушкой на кровати. Потом, правда, меня отселили спать на раскладушку, я страдал энурезом и ночными страхами. Задыхался, кричал, видя дурные сны. Под утро просыпался мокрым и стыдился этого. К врачам меня не водили, хотя бабушка и говорила часто, что я уже взрослый и это ненормально. Если бы спросили меня, я бы сказал, что это все ненормально. Что мы все ненормальные, раз позволили загнать себя в эту однокомнатную клетку, если на земле есть моря и океаны, поля, леса, реки, просторы. Где можно жить счастливо. Но мы в клетке беспомощно жались друг к другу, доставляя мучения. Единственное наслаждение – это боль, которую мы доставляли и терпели. Жалкие черви в глазах сурового Бога, которому все время молилась бабушка, а я повторял за ней.
Мы были такие разные, что мне непонятно, как мы могли жить вместе, какая космическая сила свела нас. Мать широкая, низкая, но с милым добрым лицом. Отец такой же широкий, тогда еще не толстый, с вечной щетиной на лице и красными воспаленными глазами. Руки короткие, пальцы короткие. Походка нервная, быстрая. Волосы стриженные, жесткие. Брови как у Брежнева придавали лицу угрюмый свирепый вид. Сестра младшая – светловолосый ангел с синими глазами. Старшая – темноволосый. Вулкан в женском обличии. Бабушка высокая и худая, строгая, морщинистая. Вторая бабушка – низкая, рыжая, вечно пьяная. Я курносый, тонкий, жалкий, синеглазый ребенок. Мы будто были выдернуты из разных миров и ради развлечения пантеона богов закинуты на ринг, с которого нельзя уйти, даже после смерти, ибо нам еще долго вращаться в круговороте сансары.
В один из вечеров я медленно брел домой, растягивая время. Тысяча пятьсот тридцать шесть шагов от школы до дома, не забуду это число никогда. Я знал, что отец придет с работы примерно в семь, поест, посмотрит новости и только после этого уснет с громким храпом. И это мой шанс. Нужно попасть в квартиру, когда он будет спать, быстро сделать уроки и тоже уснуть. Я не хотел попадаться ему на глаза. Чем позднее я прибуду домой, тем больше шансов избежать конфликта. Но уже было темно, играть не с кем, и я не придумал ничего лучшего, чем спуститься в колодец во дворе. Там не так сильно дул ветер, вместо земли под ногами – замерзший, зеленоватый лед, бетонные стены объяли меня словно теплые ладони. Пахло цементом. Над головой – огромная дыра, через которую я попал сюда, в нее было видно мерцающие звезды и проплывающую зимнюю пелену. Эти звезды я запомнил на всю жизнь, как пьяный запоминает порой незначительные детали вчерашней попойки. В тишине и покое я дышал морозным воздухом, а время шло. Было тихо и спокойно. Мне не было холодно, я был тепло одет. Я мог думать, о чем хочу, я мог фантазировать и мечтать.
В тот вечер я дождался, пока отец уснет, пришел домой часов в одиннадцать, поел, сделал уроки и тоже быстро уснул. Мне казалось, мой план удался. Вечер прошел спокойно. Но ночью я проснулся от сильной боли, с недоумением на лице, не отойдя от сна. Мне казалось, Зевс с высокого Олимпа мечет в меня свои молнии. Ночные кошмары воплощались. Спина горела огнем, полыхала как дерево, которое увидел Моисей. Это не символ духовного кризиса, это даже не метафора, это то, что люди глупые зовут реальностью. Сначала я не разобрался, в чем дело, даже боль казалась мне не слишком сильной. Такая же далекая, как загадочное эхо в горах. Я открыл глаза и легонько вскрикнул. Проснулся окончательно. Было темно. И снова боль, на этот раз я уже ощутил удар по-настоящему.
– Опять обоссался! – услышал я истеричный голос отца.
Он уже изо всех сил бил меня ремнем. Он старался.
Его, видимо, раздосадовал первый удар, на который сонное тело не смогло среагировать. Я закричал. Проснулась мать. Она не сразу поняла, что происходит. Может, это снова ночной кошмар. Но потом сообразила и отобрала у отца ремень. Обошлось без драк, она просто вырвала его у него из рук и наступила неловкая тишина. Но меня поставили в угол. Я дрожал от холода, в окно падал лунный свет и загадочно стелился по ковру. От криков проснулись остальные дети, с любопытством смотря на меня. Вскоре они уснули. Мать убрала испорченную простынь, тихо сказала, чтобы через пятнадцать минут, как отец опять уснет, я шел спать. Пока он не закрыл глаза, она боялась его сама. Мне нужно было покорно принять свое наказание. Я был не против.
Наступила тишина, я стоял в ночной комнате, в углу, в одних трусах, всматриваясь во тьму. В тот момент я почувствовал сильнейший эмоциональный всплеск. Эмоций было так много, что они будто вода из снов заполнили комнату. Но это была теплая вода, та вода, которая символизирует чистые чувства и вечную любовь. Не стало страха, ненависти, боли, просто как откровение я осознал, как мы страдаем в этой комнате. Да, я был мал, но я запомнил это чувство отрешенности, словно я разум вне тела и вижу все со стороны, я готов был принять любое наказание, лишь бы спасти нас. Помню эту комнату, обои, спящие лица, ковер, луну за окном. Люди несли свою немощь в нелепых телах. Как животные, они беспомощны перед лицом стихии. Перед лицом буйных просторов собственных чувств, там, где левиафан купается в кипящих водах. Их крики и желания, как бы жалко они ни звучали, ничем не отличались от жалобных криков птиц, от стонов падающего дерева, от скрипа ржавых качелей. Они не в ответе за себя, бессильны перед своими страстями, такие слабые и такие жалкие. Все есть страдание, где есть невинные. Мне так хотелось поделиться с ними этим пониманием мира, но я не мог выразить чувств, ведь я еще ребенок. Через свою боль я оплакивал их, я просил прощения у Бога за нас, словно маленький Христос в Гефсиманском саду. Я будто хотел страдать, если это поможет нам быть счастливыми. Но белесый змей играл в бушующем океане, раззадоривая наши страсти.
Я сделал все, как говорила мать, через пятнадцать минут отец уже спал, и я закутался в свежую простынь, обернулся ей, как будто она могла меня спасти и защитить, и до утра пытался расслышать в грозном храпе ноты доброты, как в белом шуме пытаются расслышать глас Божий. Я бы все отдал, чтобы вернуться туда, в ту ночь, и умереть на этой койке, чтобы пришло озарение к тем, кто совершает жестокость, не ведая о том. Но я обернут простыней, словно покойник окружен сосновыми досками. Я уже глубоко под землей, и близкие, дорогие люди хоронят меня. Меня отправили в ад, но я отомщу за это любовью.
Тем не менее, я научился выживать. Я просиживал время в колодце после школы, или шел к знакомому в гости, который по тем временам жил весьма богато. Его отец был коммерсантом, таким позднесоветским торгашом, и он очень хорошо зарабатывал. У них была огромная квартира, большая кухня. А жена была молода и красива. Я мог оценить это. Хотя я и побаивался ее, от нее веяло силой и уверенностью. В гостях меня кормили, причем я ел то, что нигде более мне не удавалась попробовать. Много десертов, какие-то сумасшедшие по тем временам блюда.
А если мне случалось прогулять школу, я бежал лазить по подвалам, следуя за своими снами. Правда, я не помню, что было первым – страшные сны о темных подвалах, или темные подвалы, которые в итоге породили страшные сны. Это было особое ощущение страха и возбуждения, когда спускаешься по ступенькам в темноту. Там, среди мусора, игрушек и труб я ощущал полную тишину и покой. Только где-то вдалеке жужжали машины и иногда в тусклых окнах подвала мелькали чьи-то ноги. Фактически, это было какое-то необъяснимое хобби – изучать все эти подземные лабиринты в домах. Чем можно объяснить подобное влечение, я не знаю. Возможно, все дети лазают по подвалам. Возможно. Меня не интересовали друзья, компании, я все делал один. Само ощущение холодного бетона, тишины и пустоты вперемешку со страхами полумрака наполняло мою жизнь смыслом. Наверное, это была аддикция, такая же, как нюхать клей. Но вместо клея я выбрал подвалы.
Хотя клей я и попробовал позже.
В школе меня не особо жаловали. Все дело было, наверное, в моем умении хранить молчание в любых ситуациях, даже если меня вызывали к доске. Учителя жаловались матери, а та порой жаловалась отцу, прося его воспитывать меня. Но я не учился не из глупого негативизма, просто не было никакого интереса к учебе. Двойки или пятерки меня совсем не мотивировали. Я терял тетрадки, терял учебники. Я просто был далек от того, что происходит в классе, бродить по подвалам гораздо интереснее. Позже, уже во взрослой жизни, свое впечатление о подвалах я высказал в книге «Все пророки лгут». Это были мои фантазии о том, как люди в результате катаклизма живут среди этих труб, в серости и нищете, прижимаясь к теплым батареям. Моя школа – это подвалы, а, если было тепло, то болото. Туда я тоже любил убегать, чтобы высматривать в бурлящих водах рыбу и больших, страшных клопов. Рвать камыши. Мокнуть по колено в ряске. И просто искать счастье в ощущении свободы.
Наверное, я бесконечно искал мою тайгу. Искал родные болота и родной мох. Но находил только городской шум и слабое подобие того ощущения таинства. Говоря языком психологии, я регрессировал. Я бесконечно пятился назад там, где следовало идти вперед. Но тайга снилась мне в тяжелых эмоциональных снах. Эти сны были самой природой. От контраста нежных лесов и грубости бетона я сходил с ума.
Однажды я играл дома, на балконе, где стоял белый шкаф, всегда закрытый, куда я никогда не залезал. Но именно в этот день он почему-то оказался незапертым. Я открыл потрескавшуюся деревянную дверь и обнаружил в нем множество всякой одежды. Там были старые шинели отца, его костюмы и брюки. Работая в милиции, он собирал списанную одежду в надежде, что когда-нибудь она пригодится. Тут пахло пылью и мокрыми тряпками. Наверное, на балконе она успела отсыреть. А внизу, на полу, я обнаружил множество военной стоптанной или поврежденной обуви. Отец служил в армии, потом пошел в милицию – видимо, военный порядок привлекал его. Вместе с тем он собирал эти ненужные вещи, которые, скорее всего, впоследствии выкинул на помойку. Под гнетом любопытства я стал шарить по карманам шинелей. Дело в том, что отец обладал плохой памятью. Даже ребенком я это понимал. Он часто забывал деньги в старой одежде. Можно было легко насобирать копеек двадцать на мороженое, а то и вовсе найти рубль. Правда, вместо денег первым делом я нашел патроны от пистолета Макарова. Я не знаю, почему он хранил их там. Но факт, это были боевые патроны с пулями. Латунь сверкала на солнце. Я заворожено смотрел на этот символ смерти, символ мужской силы для одних и символ страха для других. Я знал, что будет, если бросить их в костер, но каким-то чутьем я понял, что каждый патрон на счету. Это позже я узнал, что в милиции за каждый выстрел нужно отчитаться, а тогда я это только почувствовал. Покрутил в руках, порадовался и положил на место.
В самом низу возле стенки стоял шерстяной мешок. Я заглянул туда и обнаружил женские бигуди для завивки волос. Маленькие зеленые резиновые штучки понравились мне, я стал их изучать, рассматривать. Одну я принес в комнату, закрыв за собой балкон. Это странно. Я ощутил холодок. Как дуновение судьбы. Стало не по себе, но почему-то я не остановился. На кухне были спички, родители их прятали в шкаф. Тихонько чиркнув ими, я поджег бигуди. Резина закоптила черным, огонь разгорался. В какой-то момент я испугался этого, подбежал к раковине, набрал в кружку воды и залил свое преступление. Едкий дым ударил в нос. Это был, конечно, не пожар, но все же вид огня испугал меня, казалось, в этом маленьком намеке я увидел стихию, которую не могу контролировать. Стихию, которая пожирает все живое. Две стихии пугали меня, и это будет ясно ниже. Огонь и вода, что символизируют страх перед сильными эмоциями.
Дома пахло дымом. Я открыл балкон, проветрил помещение. И на какое-то время забыл об этом поступке. Я играл в свои игрушки, о чем-то думал, погружаясь в детские мечты. Вечером пришел с работы отец. Матери еще не было дома. Я помню его тяжелый шаг, возрастающую тревогу, когда ключ хрустит в замочной скважине. Слышу, как ветер стучит в окно. Стало холодно. Черные ментовские полусапожки сделали два шага. Раздраженный голос громко спросил: – Что горело?
Горел я. В аду.
Да, он почувствовал запах. В это время я был в комнате не один. Младшая сестра пришла с улицы и сидела на койке. Она была младше меня на два года. Совершенно белая, как призрак. Волосы, как облака. Но характер эмоциональный, живой. Она была доброй, жалела кошек на улице, здоровалась с незнакомыми прохожими. Она тянулась к людям, я же от них бежал. Мы – противоположность, но мы были по-своему близки. Старшая сестра жила своей жизнью, но младшая бродила со мной по заводам, стройкам, заброшкам и канавам. Детский взгляд, как у животного. Она легко плакала и легко смеялась. За ней рано начали ухаживать мальчики. Ее баловали. Наверное, поэтому в будущем она не захотела работать, не смогла создать семьи. Но сейчас она ребенок. Ребенок ревнивый и так же любящий мать, как и я.
Отец не стал разбираться, кто и что поджигал. Он нас обоих затащил на кухню и запер дверь, чтобы мы не сбежали. Зажег газовую плиту. Синий цветок горел над конфоркой. Отец взял за руку младшую сестру. Ее тонкое запястье было сковано этими сильными короткими пальцами. Она трепыхалась, как веточка ивы, скованная льдом. Девочка доверяла отцу, пока еще в ее глазах было лишь недоумение.
Но вот я услышал ее крики, запахло горелой плотью. Она вырывалась. Она билась. Ее сердце бешено колотилось. И снова левиафан плескался в кипящих водах, никто был не в силах его усмирить.
Я знал, что я следующий. Знал, что это неизбежно. Ощущение было очень похоже на ожидание своей очереди на прививку в кабинете доктора. Страшно, но надо пережить. Это просто дождь, он должен пройти и снова будет ясное небо. Отец мучил ее недолго, как мне показалось. В конце концов, вся заплаканная, с обожженными руками она упала на пол. Жалкий комочек эмоций, вибрация страдания и обиды. Она всю жизнь будет его укорять за это. Всю жизнь ему мстить. Ему и мужчинам.
Пришла моя очередь. Я думал, что выдержу, что не буду кричать. Но это было выше моих сил. Чем сильнее я вырывался и отодвигал руки от огня, тем яростнее становился отец. Это походило на борьбу. Саму боль я не помню, помню только страх огня, помню эмоции, но не помню времени, не помню, какая была погода, не помню, что было после, спал ли я в эту ночь, ел ли я что-нибудь. Помню только мокрые штаны и кожу, которая опадала с моих рук небольшими черными кусочками. Как листья с деревьев осенью в ожидании зимней стужи. Как снег в тихую рождественскую ночь. Опадала не сразу, наверное, через час после этого. Я впал в прострацию.
Через пару дней я пошел в школу. Но писать у меня не получалось. На руках были огромные волдыри, которые потом стали лопаться. Учителям я врал, что упал в костер. Находились те, кто мне не верил, пытались выяснить, что случилось. Но я был нем как рыба. Думаю, что и сестра поступала так же. Казалось со стороны, что мы просто дурные дети, которые нашли приключения на свою голову, балуясь с огнем. Я не помню, что сказала мать, когда смазывала нам руки кремом от ожогов. Я точно с ней об этом не говорил. Правда, помню, что она сильно ругалась с отцом, может, сестра рассказала, я не знаю. Не уверен. Зато через какое-то время отец отвел меня в сторону и тихо сказал:
– Мать не всегда будет дома, помни об этом.
Я помню об этом.
Однажды он выловил меня без матери дома. Долго пинал ногами, потом запер в ванную и выключил свет. Я сидел в углу, из глаз бесконечно лились слезы. Я, конечно, снова обмочился. Кроме того, по моему лицу на рубашку и на пол стекала горячая кровь. В темноте я даже не сразу понял, что это кровь. Казалось, я изрыгаю вместе со страданием все жидкости. Это бушующий океан чувств изливался из меня. Вода символизирует чувства. Левиафан плескался в этом черном океане – стихия чувств, с которой мне не совладать. И люди, в том числе мой отец, потерпели крушение в этих холодных водах. Я не мог им помочь. Я разучился говорить. Это была не шутка. Это разновидность аутизма, когда физически говорить я мог, но не выходило говорить о главном. Я погружался в тишину. Десятилетия тишины, и только в творчестве я мог выговориться, выразить этот бушующий океан, в музыке, в мелодии. Мне было тяжело, когда я видел этот океан в других людях, тяжело, когда я ощущал, что люди не могут совладать с этой стихией.
Очень много воды. Меня тошнило водой. А во взрослой жизни меня будет тошнить чувствами и эмоциями. Кажется, я залил всю ванную, но в темноте я не видел этого, просто ощущал. Кроме того, я боялся темноты, панически, и я был в ней. Я находился внутри страха. Отец через какое-то время открыл ванную, включил свет, и нам обоим открылась безрадостная картина. Весь пол залит кровью, ей забрызганы стены и ванна. Пахнет дурно. Я лежу у него в ногах, жалкий и мерзкий. Он с силой отрывает меня от пола, как тряпичную куклу, легко подносит к большому зеркалу. И я вижу отражения себя и отца. Мы очень похожи друг на друга, почти одно лицо, лишь пропасть лет делает нас разными. Те же глаза, то же недоумение во взгляде. Даже цвет глаз один и тот же, ярко синий, как цвет весеннего неба, как нежные васильки на летнем газоне. Он громко говорит:
– Посмотри на себя, ты думаешь, тебя пожалеет кто-то, если будешь ныть?
Я молчу. Он кричит. Ему так не хватает своей тишины. Я не помню всех слов, помню только, что ныть нельзя. Я уже не ною. Помню, что надо быть мужиком, я уже мужик. Но я далеко, я не здесь. Крики его замолкают, я падаю на пол, терплю молча удары, потом мне кидают в лицо половую тряпку, и я мою ванную за собой. Стираю штаны и одежду. Смотрю, как по эмали ванны в черную трубу уходит розовая вода. Все становится чистым. Все делается в трансе, на автомате.
Много ночей я спал на унитазе во внутриутробной позе. Отец считал, что раз у меня энурез, мне с унитаза не стоит слезать. Он заходил и проверял туалет, вдруг я слез, тогда он бы наказал меня. Но я был покорным, и повторного наказания не требовалось. Я был мал, потому легко умещался на белом ободке. Только тело быстро затекало, и приходилось осторожно ворочаться, чтобы ничего не сломать.
Время шло, снова приходит ночь, я мучаюсь бессонницей, я мало ем. Но это проходит. Я не хочу учиться, мне все неинтересно, я не могу сосредоточиться ни на чем. Я теряю социальные навыки, я теряю социальный мотив. Мне неинтересно получать пятерки, мне неинтересна чужая хвальба, мне все равно, кем я буду, где буду работать и что будет со мной. Девочки меня не интересуют. Меня интересуют только эмоции, и я ищу форму для них. Тогда я бесконечно много рисовал, но я еще не знал, что это поиск формы. Это понимание пришло через многие годы. Безразличие к себе я сохранил лет до тридцати. И это важный момент. Просто хочу сказать, что до этого возраста я не тянулся к женщинам, меня мало интересовал секс, я одевался как свинья, я не ухаживал за собой, я редко мылся, я жил в ужасных условиях. Но время придет, и я стану другим. Я проснусь.