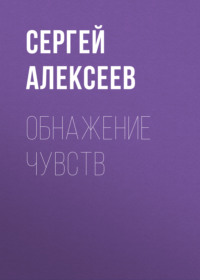Полная версия
Мутанты
– Приехать в отпуск-то обещается?
– Обещается, жди… Пока, говорит, горсть алмазов не накопаю, не приеду.
– Сдались ему эти алмазы! – Сова обиженно высморкалась и тут же принялась ругаться с причетом: – А все ты! Ты дорогу из родной хаты показал! Вот и осталась я одна-одинешенька на старости лет! И некому будет воды подать…
Куров знал, что эта песня на добрых полчаса, снял противогаз и прибавил звук в телевизоре. Обычно в таких случаях он отмалчивался, поскольку мысленно соглашался с бывшей супругой и чувствовал себя виноватым.
После освобождения брянщины от фашистов диверсанта Курова демобилизовали по ранению, но вместо того, чтоб в тот час отправиться домой, в Московскую область, он оказался в Братково. Его партизанская подруга Лиза Совенко уговорила остаться в ее родных местах: мол, поправишься и поедешь, куда тебе торопиться? А сама, коварная, уже тогда замыслила женить Кура на себе и навсегда оставить на Украине, оттого и ласковая была, безотказная, всякую его волю исполняла и в рот заглядывала. Он и не собирался жениться на ней, не нравилась ему Сова – курносая, глазки маленькие, востренькие и губы вечно удивленной трубочкой. И хоть рано созрела, аппетитно округлилась, словно краснобокое яблоко, да не то что укусить – ущипнуть не дает. Командир прикрепил ее к Курову, чтоб обучил всем премудростям взрывного диверсионного дела, так и образовалась птичья диверсионно-разведывательная группа Кур и Сова. Потому они на пару целый год ничем иным, кроме рельсовой войны, не занимались. Это уже когда он долечивался под ее присмотром во фронтовом госпитале, потерял однажды бдительность и допустил непозволительную шалость – как-то само собой получилось, невзначай. Думал, обойдется, и, поправившись, собрался уезжать, но Сова вдруг заявила, дескать, на сносях я, и не стыдно ли тебе, геройскому партизану, бросать обманутую беременную девицу, фронтовую подругу на произвол судьбы? В общем, он по молодости-то поддался шантажу, остался, но в сельсовете расписываться не стал принципиально.
Она тогда и на это была согласна.
А Братково немцы еще в сорок втором дотла сожгли, жить негде, так они снова вернулись на вторую заставу, поселились в прачечной и прожили там до весны. Хотели летом хату поставить в селе – им, как героям, землю дали и материала на строительство, но тут заявился вербовщик и говорит, мол, на золотые рудники требуются взрывники. Они же с партизанской подругой ничего тогда еще не умели делать, кроме как взрывчатку под рельсы или мосты подкладывать да эшелоны под откос пускать. Курова с беременной женой не взяли бы, но супруги скрыли это, записались добровольцами и поехали в Якутию. Тут спустя некоторое время и выяснилось, что Елизавета пустая и ни на каких сносях вовсе не была, но уж поздно, увяз коготок. Так пять лет они на пару шпуры бурили, аммонит закладывали и рвали породу с кварцевыми золотыми жилами. Надо сказать, Сова и в тылу у немцев была отчаянной, иногда чуть ли не у них на глазах магнитные мины под вагоны ставила; тут же и совсем расхрабрилась, и возникло между супругами нечто вроде рискованного соревнования – кто короче запальный шнур оставит. Однажды били шурф буровзрывным способом по коренным породам, и такая заруба, что никто уступить не хочет. А суть ее состояла в следующем: надо было зарядить шпуры, свести детонирующие шнуры в коллектор с капсюлем, уже в него вставить бикфордов шнур, запалить его и, пока горит, успеть подняться наверх в бадье, которую выкручивали воротом двое горняков. И получалось: шурф все глубже, а шнур короче. Было уже метров десять глубины, когда Степан установил абсолютный рекорд и подорвал заряды тридцатью сантиметрами – меньше оставлять уже было никак нельзя. Но Сова вошла в раж и сдаваться не собиралась: демонстративно укоротила шнур еще на вершок и спустилась в забой.
– Не шали, Елизавета! – предупредил Куров. – Не успеешь!
– Успею! – отвечает эта поперечная женушка. – Я легче тебя!
Забралась в бадью, запалила и кричит:
– Вира!
Горняки тоже в азарт вошли и страх потеряли, навалились на рукояти, крутят ворот, смеются – Степан помогать кинулся, и все равно не поспели. Взрыв громыхнул, когда Сова была уже над устьем шурфа, и это ее спасло: мощной ударной волной ее подбросило метра на три вверх и только посекло задницу крошкой кварцевой жилы. Говорят, в больнице, когда осколки вынимали, то даже самородное золото находили, правда, мельчайшие частицы извлечь не смогли, много еще и осталось. Месяц она пролежала на животе, пока не зажило, после чего к взрывчатке больше не притрагивалась, поехала учиться на курсы ветеринаров и последние два года в Якутии проработала на конной базе рудника. И то ли от этого памятного взрыва, то ли от золота, которое вросло в тело, но пробудилась наконец в Сове женская природа: неожиданно забеременела и родила первенца Тараса. В Братково они вернулись по причине второй беременности. С двумя-то малыми детьми тяжеловато в холодных краях. Благодаря солидному северному заработку выстроили большую хату посередине села – как героям-партизанам, им отвели самый лучший участок – и лет двадцать, пока сыновья не выросли, жили душа в душу. Выучили Тараса на механика, женили, но рожденная в Якутии бродяжья неуемная душа все куда-то манила сына, и в результате взял он свою жену да по комсомольской путевке рванул на Сахалинские нефтепромыслы, простым бульдозеристом. А спустя год следом за ним и второй сын, Василий, сорвался, – оба за длинным рублем погнались. Причем поехали не спросясь, своевольно, отчего Сова и начала ворчать на мужа, мол, это ты им дорогу из дому показал, ибо сам по характеру бродяга, бездомок и кочевник.
Там, на далеком острове, у Тараса родился Юрко. Внук, долгожданный, красивый, пригожий, был, однако, болезненным из-за худого сахалинского климата. Как-то приехал старший в отпуск, отпрыска своего показать, а Сова как увидела его, так и отрезала:
– Внука вам не отдам! Загубите, ироды, ребенка!
Родители особо и не сопротивлялись, оставили Юрка и уехали. И еще на несколько лет в хате воцарился мир и душевный покой, но лишь до тех пор, пока внук в армии не отслужил. Словно подменили парня. Вроде и невесту себе нашел, свою, братковскую, Оксану Дременко, первую красавицу в районе. И родители у нее люди солидные, уважаемые: отец Тарас Опанасович секретарь райкома, мать главврачом в больнице. Через них Юрко и на работу поступил в ГАИ – место прибыльное, с казенной машиной и одежей. Казалось бы, женись и живи, в ус не дуй! Ан нет, затосковал, заметался, все ему не ладно.
– Дела большого хочу! – заявил однажды деду. – Мир хочу посмотреть. А женюсь, так дальше Брянска не уедешь.
Да и Оксана тогда была девицей гордой, заносчивой: секретарской дочке отдельную каменную хату и чуть ли не царицыны черевички подавай на свадьбу. Не то, мол, что за жених – гол как сокол, хотя предки всю жизнь на нефтепромыслах отмантулили. И вот эта ссыкуха склонила парня съездить на заработки, да не на Сахалин, а по дедовой дорожке, в Якутию, за алмазами. Тогда многие уезжали на севера, Шурка Вовченко оттуда вернулся и сразу же кирпичный особняк выстроил под железной крышей, машину «Волгу» купил и еще осталось денег, чтоб жить и дурака валять. Говорили, повезло ему – выковырял однажды крупный алмаз и продал спекулянтам. Должность начальника таможенного пункта, по слухам, он попросту у Пухнаренкова купил за семь тысяч долларов. А все для того, чтобы сидеть на теплом месте и заниматься своими делами для души. Он еще на Севере увлекся всякими необъяснимыми явлениями природы – летающими тарелками, пришельцами и прочими чудесами. Сидел на таможне, с башни в телескопическую трубу по ночам смотрел, что-то записывал или читал книжки, присылаемые ему по почте. Дед Куров считал, вот так и должен жить человек: потрудился со всей силы несколько лет, а потом живи в свое удовольствие. Но многие думали про Шурку, что он слегка с катушек сбился: нет бы бабки зарабатывать на хлебном месте, а он, дурень, чертей ловит сам и еще других заражает всякими небылицами.
И сам Дременко думал отдать дочку за богатого зятя и еще чуял, что скоро придет конец его власти. Потому советовал Юрку прежде на ноги встать, а потом жениться.
В общем, завербовался внук и уехал совершать большие дела. А тут начался всеобщий развод, раздел имущества и государственного огорода. Когда же он закончился, бабка Сова, должно быть, из ума выжила по старости и потребовала, чтоб Куров на ней женился законным браком. Всю жизнь прожили нерасписанные и ничего, а тут приспичило ей: мол, не желаю в гроб ложиться девицей невенчанной. Как внук подался в Якутию, так она тогда помирать собралась и даже гроб себе купила, чтоб ее гробовые деньги не пропали. Правда, потом подарила его, когда одна из ее подруг преставилась. Дед чуть было не поддался на провокацию, но поразмыслил и решил не смешить народ на старости лет и расписываться отказался. Так бабка и вовсе взбесилась и стала строить в хате границу. Сама доски таскала, городила, выгадывая, конечно, себе побольше, но дед не противился. Однако двери между половинами все-таки заколачивать не стала, а замкнула на огромный висячий замок и завесила премиальным ковром, полученным когда-то за успехи в деле кастрации и осеменения.
– Ко мне в Россию больше ни шагу! – заявила. – Не хочу с вами, хохлами, на одной жилплощади жить!
Конечно, это она все от тоски по внуку, но, видя непреклонность Совы, Куров со своей стороны перегородку обколотил старыми фуфайками, тряпьем ненужным, даже шинели не пожалел. Сверху для аккуратности строгаными досками закрыл, на дверь замок повесил и прикрыл ее своим премиальным ковром.
Юрко же в Якутии только деньжат заработает на хату, но до аэродрома доехать не успеет, чтоб билет купить, глядишь, сгорели, подешевели – на обратную дорогу не хватает. Возвращаться же с пустыми руками позорно, внук уродился весь в бабку: упрямый, как все Совенки, дерзкий, своенравный, в общем, по характеру – так истинный хохол. Первые годы старикам письма часто писал, Оксане же чуть ли не каждый день, и никогда не жаловался на судьбу, ковырял свои алмазы в кимберлитовой трубке и обнадеживал деда с бабкой и невесту, мол, еще на годик останусь и тогда уж на каменную хату будет. Но тут дефолт в России случился, и Юрка опять с носом остался, да в уныние не впал, поскольку на удивление первая раскрасавица Оксана все еще ждала его, себя блюла, на ухаживания не отвечала и всем сватам, что являлись, гарбуза выносила – любила крепко, должно быть, жениха своего. В результате осталась незамужней, на пару с Тамарой Кожедуб. Они долгое время даже ходили всюду вместе, под ручку, а если на дискотеку, то танцевали шерочка-с-машерочкой. Мужики все еще облизывались, взирая на недоступную Оксану, а Тамару попросту никто замуж не брал, опасались ее саженного роста, непомерных объемов и богатырской силы. Но тайно восхищались, глядя на обеих. Вот эти-то несмелые братковские женихи и пустили по селу грязные разговоры, мол, не дружба у этих двух старых дев, а грех сплошной – лесбиянство называется. И кто-то из завистников Юрку письмо в Якутию написал, дескать, твоя невеста замуж за Шалавовну собралась – это за глаза так Тамару называли, по отчеству-то она Шалвовна, вроде родитель у нее был заезжий грузин. Должно быть, Юрко поверил, обиделся и Оксане на письма отвечать перестал, хотя дед Куров опровергал все злобные домыслы.
В самом же деле здесь другая причина была. Внук наконец-то ума набрался и однажды втайне от бабки отписал деду, мол, нынче на алмазах денег не заработать и хаты не построить, свадьбы не сыграть, теперь хорошо живет тот, кто шаманить умеет и деньги к себе притягивать. Дескать, бросил я работу в алмазной трубке и поступил в высшую шаманскую школу на учебу – дар у него какой-то там прорезался. Тогда же повсюду открывали духовные семинарии, академии, медресе там всякие, ну а у них, в Якутии, естественно, институт белых шаманов. И еще предупредил Юрка, ты, мол, дед, про это ни бабке, ни Оксане не говори – не поймут или, чего доброго, испугаются. Короче, с тех пор на зависть Сове и началась у Курова с внуком тайная переписка. Так что Степан Макарыч чувствовал себя хозяином положения, однако удовлетворения не испытывал, ибо подозревал, что Юрко, скорее всего, высмотрел там какую-нибудь якутскую шаманку, женился и этот факт скрывает даже от деда. Он-то по опыту знал, какие они прилипчивые, девки ясашные, особенно к начальникам льнут, а шаман у них и раньше считался самым главным начальником.
Поди, еще правнуки появились, узкоглазенькие…
И вот теперь, выслушав бабкин обвинительный причет, Куров выключил телевизор, промешал угольки в печи и, убедившись, что угару не будет, даже если старухе вздумается трубу закрыть (мало ли что ей в голову взбредет!), улегся спать. А сон ему приснился такой, как Юрко в письме описывал, если его скоро назначат верховным шаманом. Привиделось, будто уже назначили, и теперь внук живет в белом чуме, ходит в белых, с красными узорами из бисера, одеждах, соболями отороченных, и ездит на тройке белых же оленей, если по тундре, а если по дорогам, то на черном «мерседесе» с охраной – как патриарх у нас. И везде ему почет и уважение, ибо постиг он высшую магию шаманства и с помощью белого бубна с золотыми колокольцами изгоняет из пределов Сахи-Якутии злого духа, имя коему Арсан Дуолайя…
Куров и проснулся от звука этого бубна, однако прислушался, а это Сова в перегородку стучит, но не кулаком, как всегда, а осторожно, козонком пальчика. Доски еловые сухие, так звонко получается…
– Ну, чего?
– Спасибо уж тебе, Степан Макарыч, – вдруг заговорила льстиво, будто опять женить на себе хотела. – Когда ты с добром ко мне, я ведь тоже в долгу не останусь… А на мои слова внимания не обращай. В сердцах сказала, что ты бы в штаны навалил… Все такой же храбрый оказался, как в молодости. И муданта этого не испугался.
Дед ушам своим не поверил: эко запела! Но из соображений конспирации интересоваться не стал, надеясь самостоятельно выведать, что это со старухой приключилось. И скоро выведал: оказывается, Сова рано утром отвязала козла, взяла его на поводок, как собаку, сунула за пояс «вальтер», но только со двора – глядь, а лукошко на калитке висит. И колечко, привязанное шнурком, на месте, и ножичек…
Вероятно, и решила, что это бывший супруг сподобился, сбегал ночью на вторую заставу, отыскал и принес. Курову же ничего подобного и в голову не приходило, однако разрушать старухиных иллюзий он не захотел, но, влекомый крайним любопытством, тихонько залез в подпол, откопал там наган и подземным ходом, прорытым еще несколько лет назад в сопредельное государство, дабы через таможню с оружием не ходить, пробрался в Россию. И там уже задами, обогнув село, отправился на вторую партизанскую заставу…
Глава 2
Во второй раз этот мутант, леший, черный партизан, или как еще его там, объявился на украинской стороне: то ли за государственную границу сиганул, то ли вообще другой был, но очень похожий по описанию. В Братково на оба государства был один бизнес – контрабанда, и таскали ее туда-сюда огромными сумками на плечах и головах, как африканцы, от заката и до рассвета. С Украины в Россию чего только не волокли – от колготок до запчастей к самолетам, да и в обратную сторону тоже – от сигарет до моторного масла и грузовиков «КамАЗ», разобранных на детали. И много еще всякой всячины таскали, которой не хватало на другой стороне, либо была значительная разница в цене. Делали это в основном женщины, и тайными лесными тропами, поскольку все шоссейки, проселки и бывшие хозяйственные дороги были перекрыты заставами, постами, патрулями и секретами, как в прошлые партизанские времена немцами, только еще надежнее. И вот спустя неделю после того, как бабка Сова нос к носу столкнулась с чудовищем, шли себе ночным трафиком с российской стороны три хохлуши, несли кипы с «Мальборо» подпольного брянского производства. А давно было замерено: одна средняя братковская женка при определенных навыках и соответствующей увязке груза без особого напряжения способна за раз перетащить на себе ровно два кубометра сигарет. То есть втроем они заменяли грузовик «Газель».
И вот контрабандистки благополучно миновали засады, прошмыгнули через свое тайное «окно» на госгранице и, должно быть, расслабились в ридной Украйне, осторожность потеряли, да и притомились: светает уже, комары жрут, а отмахнуться – руки заняты. Остановились на минуту дух перевести, тут из тумана и возник мутант – горбатый, волосатый, ноздри раздувает, отфыркивается и рычит утробно, словно бык разъяренный. Женщины так и обмерли, поскольку слух о нем, несмотря на Куровскую конспирацию, всю округу трижды облетел и оброс шерстью всяческих домыслов не хуже, чем снежный человек. Стоят, шевельнуться и дыхнуть боятся, только глазами зыркают. А леший приблизился и стал им в лица заглядывать, будто искал, кого бы схватить и уволочь. Страшно, аж оторопь берет! И верно: трехглазый, бородатый, на голове то ли шапка рогатая, то ли волосы у него дыбом стоят – в сумерках не поймешь. Руки длинные, могучие, но вместо когтей вроде пальцы, и зловоние от него исходит, как от бомжа на Сумском вокзале.
Среди этих трех хохлуш Любка Когут была женщиной хоть и самой молодой, но разбитной, бывалой и находчивой, поскольку успела потомиться в сексуальном рабстве аж в Саудовской Аравии. Верно, насмотрелась она там на всяческих мутантов и тут скорее всех с собою совладала – когда леший ей в лицо заглянул, вынула из кипы блок и в лапы ему сунула. Показалось ей, он сигарет просит. И точно, взял! Рыкнул только, гривой своей тряхнул, осклабился и убежал в сторону России.
То есть он, может, и мутант, но человеческие дурные привычки ему не чужды: раз взял «Мальборо», значит, курить приучен.
В общем, откупились женки таким образом, подхватили свои кубометры контрабанды и галопом в условленное место, где их поджидал грузовик.
Привезли они товар в свое Братково и, чтобы сердечного припадка от страху не случилось, собрались у Любки, выпили, расслабились и давай обсуждать, кто что успел заметить.
Оказалось, каждая из трех видела своего мутанта: у одной он был угрюмым детиной в шкурах и с рюкзаком за плечами, у другой – напротив, веселый, босый и бесштанный, причем мужское достоинство на виду болтается. Третьей же показалось, будто чудовище было в набедренной повязке, лицо черное, как у негра, за спиной вовсе не горб и не рюкзак, а лук со стрелами, как у первобытного человека. А еще Любка Когут разглядела, что два глаза у него расположены, как у обыкновенных людей, только вытаращенные, круглые, но третий – во лбу и узкий, прищуренный, словно дремлющий, и лучше в него не смотреть – ужас охватывает. Еще почудилось ей, мутант этот был беззубым, как старик, хотя бабке Сове являлся зубастым и с хищным оскалом. Но все три контрабандистки сошлись на одном: фигурой и образом своим этот леший очень уж похож на Дременко – исполняющего обязанности головы украинской братковской администрации. Особенно Любка порезвилась на этот счет: мол, если на него вывернутый тулуп надеть, неделю не брить да сажей помазать, как делают на святки ряженые, – так вылитый! И «Мальборо» курит!
Однако предупредила своих товарок, чтобы о такой догадке помалкивали, не то Тарас Опанасович рассердится и перекроет трафик. Те языки прикусили, но самой этой стервозной Любке не утерпелось, и пошел гулять слушок, пока еще не громкий, вкрадчивый и липучий, как жвачка. А его надо было глушить на корню, поэтому Дременко отправился к бывшей секс-рабыне – дождавшись сумерек и крадучись: он хоть и вдовец, но накануне выборов лишние разговоры ему ни к чему.
Любка же Когут за несколько лет на воле после побега из Саудовской Аравии на контрабанде сигарет так поднялась, что коттедж себе выстроила в престижном месте села, высоким забором обнесла и завела двух кавказских овчарок. Не мести своих заморских господ опасалась, а чтобы местных мужиков отвадить. Проституток в Братково только на учете стояло десятка полтора. А этим мужикам, видишь ли, Любку подавай, которую они считали самой заманчивой и дорогой, возможно, как раз по причине ее прошлого, когда она, будучи невольницей, оказывала услуги всяким шейхам и нефтяным королям. Однако вернувшись в родное село, она завязала со своим ремеслом, успешно занялась бизнесом и теперь отбивалась от потенциальных клиентов с помощью цепных псов.
Дабы не тревожить собак, Дременко заранее позвонил Любке и пришел к назначенному часу. Она впустила его через черный ход, видно, решила, что голова явился за тем же, за чем и другие мужики, и, верно, вздумала для него сделать исключение. А иначе бы не нарядилась в восточный наряд для танца живота, который с порога же привел Тараса Опанасовича в ярость. Он-то шел лишь строго предупредить, чтоб не болтала и чтоб свои слова назад отыграла, распустив молву, например, что мутант не на него похож, а на таможенника Волкова. Ну и «Мальборо» хотел прикупить по дешевке. Тут же узрел, как она перед ним своими прелестями трясет, ну и взбесился.
– Та я же ж тебе посаджу! – закричал без всякого вступительного слова. – За контрабанду и простытуцию! З конфискациею особыстого майна! – И пообещал вовсе в тюрьме сгноить.
Напугать Любку было трудно – бывалая женка. Только огрызнулась, мол, попробуй, и еще пригрозила овчарок спустить. Дременко в сердцах дверью хлопнул, убежал, однако потом опамятовался, что недостойно себя вел, не как голова администрации. И все потому, что привлекательная она была, зараза, приятная во всех отношениях, а ему по положению не то что разговоры с ней вести, а и смотреть-то не полагалось. В общем, тяжелый осадок остался. Любка, однако же, напугалась, бросила контрабанду, поручила своим товаркам собак кормить и на следующий же день убежала за границу – к своей тетке на российской половине Братково. И сразу вроде бы слухи пошли на убыль…
Да только ненадолго, ибо вскоре случилось событие, которое потрясло оба государства сразу.
По линии братковской границы китайцы железобетонный забор возводили – все для того, чтобы остановить дикую, неуправляемую контрабанду. На это строительство существовало давнее межгосударственное соглашение, то есть политическая воля была и материалу вроде бы вдосталь – аккуратные и бережливые немцы, когда демонтировали берлинскую стену, то ломать ее не стали и прислали в Россию, в качестве гуманитарной помощи. Хватало также и техники, и электроэнергии, и финансов, но если в Берлине ее установили за одну ночь, то здесь строили уже много лет, и все потому, что ни москали, ни хохлы не хотели терять своего бизнеса, сами откровенно саботировали работы и никому не давали. Возводили стену всем миром, как гидроэлектростанции в добрые старые времена, и перебывали в Братково представители всех бывших союзных республик. Начинали стройку неторопливые и равнодушные ко всему прибалты, приглашенные украинской стороной, однако скоро уехали – из-за распрей на национальной почве: их начали лупить как хохлы, так и москали. Киевская власть потеряла интерес к этому важному объекту, но московская сторона, напротив, стала вкладывать еще больше сил и финансов, поэтому привозила узбеков, таджиков, армян, молдаван и даже турок. Но более года-двух никто выжить в этих краях не смог физически, несмотря на высокие заработки: или отловят и поколотят демократично и современно бейсбольными битами, или строительные вагончики с гастарбайтерами подпалят, как во времена классовой борьбы, а чаще совсем уж по-партизански – ночью обстреляют из шмайсеров, причем одновременно с двух сторон. Однажды вовсе устроили теракт, подложив под почти готовую стену семь килограммов в тротиловом эквиваленте, – двенадцать пролетов вдребезги разнесло.
Само село еще кое-как разгородили по демаркационной линии, на гребень спираль положили из колючей проволоки, фонарей навешали, таможенный пункт открыли по евростандарту, с КПП, увенчанным сталинской монументальной башней с флагами, и заказали в Германии башенные часы, чтобы время было видно отовсюду. А пока их не привезли, Волков и Вовченко устроили там наблюдательные площадки, каждый в свою сторону, чтоб приглядывать, в каком направлении движутся товаропотоки. Это была не просто самая высокая точка в селе, откуда открывался вид сразу на два государства и создавалось ощущение, будто паришь над землей и над крышами домов; государственные флаги, полотнища которых плескались над самой головой, наполняли чувством принадлежности к высокой власти – будто на трибуне стоишь, на вершине пирамиды, а под тобой нечто вроде бесконечного парада, которым ты управляешь одним лишь мановением руки.
В общем, так оно примерно и было, поскольку таможенники в Братково пользовались непререкаемым уважением и большой властью. Особенно в самом начале, когда только границу оборудовали. Волков с Вовченко вообще были как жрецы, а таможенная башня храмом: бабки на нее крестились, а вместе с ними и главы администраций уважительно снимали шапки, ибо деньги в бюджет потекли рекой. Укрощенные же было контрабандисты плевались на башню и грозились сровнять с землей, но потом попривыкли и угомонились, отыскав иные пути переброски товара. И если КПП были чистилищем, поскольку всякий проходящий и проезжающий, как пред вратами рая, должен был ответить за грехи свои, то смотровые площадки и вовсе считались святая святых, куда был заказан вход простым смертным.