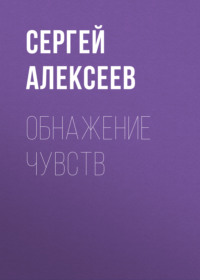Полная версия
Материк
– Как же по-другому-то? Хозяйство ведь, дети, – рассудила она и прижала мою голову к груди.
– Так ведь здесь глушь собачья. Живете, как в берлоге, людей не видите. Только и знаешь работать с утра до вечера, – возмущенно заговорил Иван. – А ты еще молодая, для себя надо немного пожить, белый свет посмотреть. Ты же как в прорубь башкой в эту работу. Погляди на себя, ты же красивая женщина! А с такой жизнью через пять лет старухой станешь… Детей наплодили! Ну куда столько в твои-то годы, подумай! Они ж тебя живьем съедят, всю кровь высосут.
– На то мы и живем, Иван, – с какой-то тихой радостью проговорила мать и вдруг напряглась: – Что это ты жалеть меня вздумал? Как это – дети кровь высосут? Да я им сама кровь отдала, и нечего ее сосать.. И как это – людей не видим? Да у нас тут столь народу бывает – положить некуда! То сплавщики заедут ночевать, то покосники, а то и проезжие какие…
– Не о том же я, Валя. – «Ероя» из-за полога не было видно, но мне показалось, что он сморщился. – Хочу сказать, несчастлива ты здесь.
– С чего ж ты взял? – встрепенулась мать. – Ты погляди, у меня четверо! И все вон какие, беленькие да пригоженькие! – Она еще плотнее прижала меня и поцеловала в ухо. В ухе сразу тоненько зазвенело, и мне стало так тепло и радостно.
– Да я про детей ничего не говорю, – вздохнул Иван, – я про тебя…
– А какое еще счастье бывает? – спросила мать.
– Другое бывает, – отрубил «ерой», и я услышал в его голосе что-то от команды – р-р-рот-та! – Другое, Валя. Я бы тебе его показал – век бы в эту жизнь не потянуло…
– Погоди-погоди, Иван, – вздрогнула мать. – Что это ты ночью такие разговоры затеял? Нечего шушукаться здесь. Если что-то сказать хочешь – говори днем, при всех… Тут ребенок со мной. Что он подумает?
– Он еще ничего не понимает, маленький… Полюбил я тебя, Валя, – неожиданно глухо сказал Иван. – Еще когда плясали с тобой – полюбил.
Мать как-то резко ослабла и погорячела вмиг. Пахнущая молоком грудь ожгла мне щеку, во рту пересохло… А коростели за рекой вдруг заорали пронзительно и громко, словно ждали этой маленькой паузы, чтобы наораться вдосталь.
И еще что-то забилось под щекой, заклокотало – тук-тук, тук-тук!
– Ты сдурел, Иван, – отчетливо произнесла мать. – У меня четверо детей! Что ты говоришь? Иди спать, сейчас же.
Однако «ерой» словно в атаку пошел.
– Поехали со мной, Валя, – заговорил он отрывисто. – Я тебя в город увезу, к людям. В каменном доме будешь жить, на четвертом этаже. Ты здесь всех на руках носила – там я тебя буду носить. Ну? Я тебе напыльник куплю, как картинку одену. Прямо сейчас уйдем, пока Трошки нету.
Коростелиный крик напрочь забил новую паузу. Даже щелочки не оставил…
Сколько помню мать – она всегда мечтала жить в городе. После того как Солдатовы – вечные друзья семьи – переехали в город Томск, мать с отцом ездили к ним в гости, присматриваться к городской жизни. В первый день они долго ходили по улицам, смотрели кино, катались на трамваях, толкались в магазинах и на базаре. И будто уж домишко себе приглядели где-то на Черемошниках. Дядя Саша Солдатов уговаривал – переезжайте, на работу помогу устроиться к себе. Сам он работал в колонии для несовершеннолетних преступниц, большим, по мнению матери, начальником – завхозом. Для пущей верности дядя Саша добился пропуска и повел моих родителей смотреть колонию. Около часа водил он их по зоне, огороженной высоким забором и колючей проволокой. Показал все хозяйство и даже девочку в наколках. Огромная синяя змея обвивала ее тело от левой ноги до горла. Едва железная дверь захлопнулась, выпустив экскурсантов на волю, мать облегченно вздохнула и сказала, что отрезала:
– Поехали домой, Троша!
По дороге на вокзал у пивного ларька их остановил прилично одетый гражданин (прилично – это значит в шляпе и галстуке) с бидончиком в руке и деликатно попросил:
– Граждане, прошу прощенья, пятнадцать копеек на пиво не хватает…
(С тех пор слово «гражданин» ассоциировалось у матери со словом «горожанин» и все люди для нее делились на деревенских и граждан.)
– Мы не граждане, – сказала мать прилично одетому, – вы уж извиняйте…
Этот случай окончательно разбил материну мечту. Разговоров о городской жизни хватило года на два. Как ее только не чистили, как только на ее косточках не валялись! Только дед мой Семен Тимофеевич слушал и ухмылялся молча. Он единственный из всей родни года три жил в Томске еще до революции и работал дворником в бильярдной Ветровского пассажа.
Из всего городского матери понравилась единственная вещь – белый плащ, который назывался напыльником и который дядя Саша Солдатов купил своей жене тете Вале.
– Полюбил-полюбил, – орали коростели за рекой, – полюбил-полюбил, – скрипели до звона в ушах.
Не выдержал, не снес орущей паузы Иван – «ерой». Встал на колено перед кроватью и руками уперся в пол, чтобы не опрокинуться.
– Душа у меня войной покалечена, лохмотья одни, – тяжело задышал он. – Думаешь, легко было их… резать? Ох, нелегко, Валь! Страшно! Страшно! Спать не могу, все война снится. С ножом ползу. Пожалей ты меня! Видишь, как война меня изуродовала? Ну куда мне теперь, калеке? Пулю в лоб? В петлю головой?.. И повешусь! Не пойдешь со мной – повешусь! Завтра хоронить меня будете…
– Господи… – прошелестели материны губы у меня на лбу и тут же окрепли, затвердели. – Ты думаешь, что несешь, Иван? У меня Трошка, дети у меня! Что же ты, жену себе найти не можешь? Женщину одинокую?
– Мне не надо никого! – осмелел «ерой». – Поехали! Трошка найдет себе. Он молодой еще, на фронте не был, нервная система крепкая. А ребятишек своих ему оставь. Ничего, вырастит! Вон как крепко зажил, с телки-то отцовой! Этого парнишку, солдата, можешь взять… Как сына…
Будто судорогой свело материны руки. Я аж задохнулся от боли, но мать тут же выпустила меня и, откинув край полога, ударила Ивана ногой в лицо. Иван опрокинулся, брякнув медалями.
– Ну-ка, сынок, зови тятю! – Голос матери звенел. – Буди и зови сюда! Ишь, убогим прикинулся!..
– Да тут я! – вдруг сказал дед откуда-то из темноты. – Давно уж разбуженный…
Он молча подошел к Ивану, помог ему встать на ногу, кажется, даже отряхнул ему гимнастерку на спине. «Ерой» потерял весь вид: пустая штанина галифе болталась до пола, ремень сбился, и медали на груди попереворачивались обратными сторонами.
– Уходи, Иван, – глухо сказал дед. – Сей же час уходи.
До сей поры не могу понять, отчего дед отпустил Ивана с миром.
Я немного знал его характер: не задень за живое, может и промолчать, поухмыляться, храня спокойствие, когда вокруг разгораются страсти. Но тронь – и взорвется, вспыхнет, и уж пощады не жди. Как-то раз заехал к нам новый директор леспромхоза, мужик молодой и гонористый. Заехал и с порога бухнул: дескать, все, дед, твой покос мы отбираем, поскольку луга леспромхозные и ты косишь незаконно. (Деду, как инвалиду войны, с давних пор выделили покос прямо за огородами. И бумага из военкомата имелась соответствующая.)
Этому директору хоть бы шапку снять у порога, хоть бы поздороваться для начала. Все-таки в избу зашел, не в стайку.
– По какому праву? – спокойно спросил дед, но уже закипал, уже подергивалась когда-то расхваченная медвежьими когтями губа.
– А по такому! – отрубил директор. – Своим рабочим покосов не хватает. Нечего чужих приваживать.
Развернулся и еще дверью трахнул… Деда подбросило. Как был в майке, так и выскочил на мороз.
– Бумагу-то возьми, – вслед посоветовала бабка. – Чего ты без бумаги пошел? Да оделся бы…
– Чужих? – спросил дед у директора уже на улице. – Это кто, я чужой?
– А кто же еще? – не сдавался тот. – В леспромхозе ты не рабо…
Удар был мужицкий, тяжелый. Директор рухнул в снег с головой, и из лопнувшей на морозе щеки хлынула кровь. Дед вытащил его на тропинку, повернул к кошевке, в которой открыв рот сидел изумленный кучер, и дал пинка здоровой ногой. Директор сел в кошеву, и только снег завихрился вослед…
Все страшно переполошились. В памяти были свежи времена не так далекие, предвоенные… Бабка ревела, советуя немедленно бежать в тайгу и прятаться, отец уже готовил деду лыжи, а мать тихонько всхлипывала и часто повторяла:
– Тятенька, что же ты наделал-то?..
– Это кто здесь чужой? – в который раз спрашивал дед мой Семен Тимофеевич, расхаживая по избе. – Это я – чужой? На своей земле – чужой? Да я ее кровью полил – слава богу! Теперь пускай он ее поливает! Мало еще дал!.. И никуда я из дому не пойду! Не бегал и бегать не собираюсь!
Покос деду оставили, а директора на Алейке больше не видели.
Отчего же он отпустил Ивана? Ведь и губа прыгала, и кулаки, оплетенные синими венами, наготове были, и та же глухота в слове «уходи» звучала как в вопросе – чужой? А вот отпустил же! Может быть, сразу простил ему все за «еройство» на фронте, за то, что Иван на самом деле настрадался и от души его остались лохмотья? Или попросту рука не поднялась на своего брата-фронтовика?
А ведь задело его за живое! Несколько дней тучей ходил по избе, зубами скрипел и время от времени грохал кулаком по столешнице. Но думал о чем – так и осталось тайной.
Тогда же, поглядев вслед скачущему на одной ноге Ивану, дед принес из избы его протез и, подозвав меня, велел догнать «ероя» и отдать ему «деревяшку». Я догнал его почти у смолзавода. Иван остановился, качаясь, молча взял у меня протез, пристегнул и заковылял дальше, позвякивая медалями. Недавний мой кумир уходил совершенно чужим человеком, и я еще не понимал, а лишь чувствовал это. Мне хотелось крикнуть: ты куда, Иван?! – но я уже боялся его и стоял, зажав ладошкой онемевшие губы.
4
Накануне рождения двойняшек, в морозную декабрьскую ночь, окотилась овечка. С вечера и часов до трех баба Оля не спала, бегала в стайку, все ждала приплода, боясь проспать. И проспала. Дырявая, крытая картофельной ботвой стайка не держала тепла, и ягнята померзли. Бабка хватилась лишь под утро, когда мать сняла с печи квашню и начала месить хлебы. В доме поднялся переполох. Баба Оля носилась по избе, костерила отца за дырявую стайку, деда за то, что вовремя не толкнул в бок и не разбудил, попало и нам – всегда по ночам писать-какать просились, а тут спали как убитые. Не доставалось только матери. Мать ходила на сносях. Живот расперло так, что к квашне не подойти. Когда мать беременела, бабка начинала побаиваться ее. Мать становилась решительной, даже дерзкой и за словом в карман не лезла.
Отца в то время дома не было. Он уезжал в Окунеевское сельпо хлопотать казенную лошадь. Дед терпеливо слушал бабкину ругань, скрипел деревянной кроватью и равнодушно покашливал. Однако когда баба Оля раз на третий или четвертый стала упрекать его – не толкнул, черт окаянный! – дед не стерпел.
– А ну – замолчь! – отрубил он и выматерился в Христа и Богородицу. – Нашла по чем плакать – ягнята… Проспали – ну и хрен с ними!
Бабку словно выключили. Она сердито заморгала, зашвыркала носом и ушла на улицу. А мать вдруг положила мешалку и схватилась за живот:
– Что-то плохо, тятенька…
Дед вскочил с постели, прибавил огня в лампе.
– Время, поди?
– Да рано еще… – простонала мать. – Медичка только через неделю назначила рожать.
– Они знают, врачи эти, – бросил дед и как был, в кальсонах, высунулся на улицу: – Старуха! Подь-ка сюды! Вальке плохо.
Мать уложили на кровать, а бабка принялась за квашню. Дед отчего-то развеселился, хромал по избе и щипал нас за бока.
– Чего насторожились-то, варнаки? – смеялся он. – Кого больше хотите? Брата иль сестренку?
– Брата, – сказал я.
– Сестренку! – сказала Алька.
– Э-э-э! – расхохотался дед. – Кто уж родится!
Боль у матери прошла. Она полежала еще немного и взялась было за квашню, но дед остановил:
– Хватит тебе. Поберегись маленько.
– Может, в Торбу тебе пойти, в больницу? – заволновалась бабка. – Как назло, и Трошки нету…
– Пожалуй, пойду, – согласилась мать, ощупывая живот. – А вдруг то первые схватки были?
Мать начала собираться. Я лежал на русской печи, подо мной гудел огонь, багрово отражаясь в окне; дед, мать и бабка, хлопотавшие внизу, тоже были красные. Казалось, весь дом заполнен огнем – и стоит открыть дверь, как он вырвется наружу и пойдет пластать по снегам и деревьям. В другой раз меня бы силком не оторвали от такого зрелища. Я мог часами смотреть в зев печи, где колышется и скручивается пламя, испытывая страх и радость. Однако мать собиралась уходить, и боязнь расставания была сильнее, чем страх перед огнем. Когда она надела пальто и обвязалась огромной шалью, я не выдержал и соскочил с печи.
– Мать, не ходи, мать… – затянул я, готовый разреветься. – Опять долго не придешь…
– Цыть! – прикрикнул на меня дед и сразу сдобрился: – Мы с тобой клепку строгать будем. А мать твоя никуда не денется. Родит братишку тебе и придет.
Я уже знал, что все на свете обязательно рождается. Корова рожает телят, собака – щенят, рождаются поросята, ягнята и даже маленькие деревца. Я никогда не видел, как это делается, но думал, что все происходит примерно так, как с хлебом. Тесто на хлеб не похоже и кислое на вкус, а посадят его в печь, подержат – и на тебе: хлеб! Не зря же баба Оля иногда говорила: «Хоть бы бог дождичка послал, а то хлеб не уродится». После дедовых обещаний я умолк и залез на верстак. Мать уже держалась за дверную скобку.
– А дойдешь ли, Валь? – неожиданно спросил дед. – Может, и мне с тобой пойти?
– Дойду! – отмахнулась мать. – Оставайтесь тут… Помаленьку пойду. Ой, и оделась-то я! – вдруг засмеялась она. – Где упаду, так и не встану.
В руке у матери был маленький узелок с распашонками и пеленками, в которых выросла сначала Алька, потом я. Последние дни мать часто садилась за машинку и что-то строчила, подшивала, обметывала. Иногда она подзывала меня, прикидывала какую-нибудь детскую одежку и счастливо смеялась.
– Господи! А выросли-то как!
– Я еще больше выросла! – хвасталась Алька и тоже подбегала примерить распашонки.
– Ну, иди с Богом! – сказала бабка и перекрестила мать. – Трошка приедет – сразу пошлю.
И через мгновение там, где стояла мать, оказалось облако пара, которое стремительно взлетело к потолку и тут же растаяло в красном жаре, исходящем от печи.
Скоро в замерзших окнах посинело. Бабка прикрыла печь заслонкой, однако в избе все равно осталась горячая краснота: видно, огонь вылетел в трубу и теперь пластал на небе. Я путался в ногах у деда и ждал, когда мы начнем строгать. Но дед словно забыл про клепку. После ухода матери он сел на верстак курить и несколько минут сидел спокойно, как всегда сгорбившись и болтая здоровой ногой. Бабка посадила хлебы, собрала на стол, однако дед выскочил на улицу и, вернувшись, начал метаться по избе.
– Ты чего, старик? – спросила баба Оля. – Садись поешь.
– А иди ты! – выматерился дед. – Ешь… Надо было с ней пойти! Куда мы ее одну отпустили?
– Дак сказала – дойдет. Веселая была…
– А не дойдет?.. – встрепенулся дед. – Вот сиди теперь и думай, где она…
– Схваток-то не было, – успокаивала бабка. – Бог даст – помаленьку придет.
Но успокоить деда оказалось невозможно. Через полчаса он уже не ходил, а скакал по избе, то и дело выбегая на улицу. Останавливался, лишь когда астма перехватывала горло и душил тяжелый, хрипящий кашель. Баба Оля помаленьку заражалась его суетливостью, и все чаще становилось слышно ее «ой-ой, господи!». Наконец она не выдержала, глянула на хлебы в печи и встала на колени перед божничкой. Мы с Алькой залезли на печь и притихли. Снизу, из-под заслонки, уже струился и расходился по избе запах горячего хлеба. Я всегда с нетерпением ждал, когда станут вынимать караваи; не дожидаясь, когда они остынут на полке, прикрытые полотенцем, нам отламывали по корочке, и мы бегали по горнице, перекидывая хлеб с ладони на ладонь…
– Господи! Владыко небесный! – молилась баба Оля. – Спаси и сохрани рабу твою Валентину и ребеночка ее в утробе…
Дед мой Семен Тимофеевич в жизни лба-то путем не крестил, ни одной молитвы наизусть не помнил, но тут встал за спиной у бабки и неожиданно посоветовал:
– Ты больше на Варвару-великомученицу молись. Сказывали, она бабам помогает…
– Уйди, – бросила баба Оля, – не суйся.
Она считала, что дед всегда смеется над ней, и терпеть не могла, когда он вмешивался или окликал во время молитвы. Дед сел на верстак и, скручивая цигарку, выглянул в верхний, незастывший глазок окошка. Вдруг руки его дрогнули, табак просыпался, и, сползая с верстака, дед закричал:
– Идет!!!
Он скакнул к порогу, выбил руками дверь и пропал в облаке пара.
Первой вошла мать. Я хорошо запомнил ее ноги, может быть, потому, что ростом был вровень с ними. На голых коленях и икрах запеклись длинные струйки крови…
За нею, обнимая громоздкий сверток из материной шали, ввалился дед…
Мы долго ходим с братьями по торбинской дороге, по осиннику, который начинается в двух километрах от Алейки и тянется полосой до чистого бора. Полоса эта не широкая, метров восемьсот – да и то, поди, не наберется. Шелестят перезревшие, в коростах, осины, свечками тянется вверх густой молодняк, редко темнеют мачты живого и мертвого пихтача. Земля здесь черная, жирная, с травою по пояс – все больше папоротник, осот да пырей, – с болотцами, мочажинками, ручейками. Вода в них темная, таежная, кажется – глубокая, но сунешь руку – едва ладонь скрывает. А дорога была и есть вечно разбитая, с колеями по колено, с гатями и многочисленными объездами.
И еще здесь особенно поют птицы. То тихо щебечут, и тогда чудится, щебечет весь лес, и земля, и трава. То кричат пронзительно и длинно, причем не перебивая друг друга, словно в театре солисты. Одна поет – все слушают. И кукушки здесь кукуют подолгу, без перерыва. Спросишь – сколько лет еще жить? – и считать устанешь…
Мы ходим с братьями-двойняшками по осиннику и ищем место, где они родились. Тимофей ищет серьезно. Идет от дерева к дереву, щупает шершавые стволы такой же шершавой рукой, смотрит под ноги, по сторонам, к чему-то прислушивается, замерев взглядом на одной точке. Мне кажется, что в такие моменты он пытается вспомнить. Но не вспоминает и идет дальше. Николай шагает серединой дороги, пиная грибы поганки, и от тоски посвистывает. Он уже притомился от безделья и жары, часто ложится на живот и пьет из лужиц воду, с шумом переводя дух и отфыркиваясь. Вода теплая, застоявшаяся, с личинками комаров, но совсем безвредная. Здесь давно уже все стерильно…
Двойняшки выросли разные: и ростом, и голосом, и натурой. Тимофей младше Николая на одну минуту и пониже его ростом, однако коренаст, коротконог и крепок. Поговорить, помечтать – хлебом не корми. Haгоpодит, случается – и наврет бескорыстно такого, что ахнешь. Одно время писал стихи: «…где глухари поют, не слыша песни». Он всех жалеет, последней рубахи не снимет, но всегда поможет. Его трудно обмануть, но легко у него украсть. Бабу Олю забрал к себе, и она, когда-то властная и своенравная, теперь только и говорит – Тимка сказал, Тимка знает… Николай же – рубаха-парень. Если уж размахнется – то обязательно бросит, в руке не зажмет. Золотые руки и бедовая голова. После скитаний по Средней Азии и неудачной женитьбы он сидел на крыльце пустой избы в Зырянке и, пьяно морщась, вдруг сказал с чужой ему определенностью и безысходностью: «Да лучше б я замерз тогда, в осиннике…»
Похожи они друг на друга только в одном: беззлобные. И жизнь постигают одинаково, все мордой об лавку…
Поиски обрывает гроза. Иссиня-черная туча налетела стремительно, закрыла полнеба, враз смолкло сольное пение, и тревожно закачались макушки осин. Мы втиснулись в Тимкин «Запорожец».
– Счас врежет, – сказал Тимка, выглядывая на улицу, – обратно толкать придется…
Разговор не склеился. Протяжно скрипели деревья, где-то ухнула старая осина, и следом, будто эхо, ударил гром. Тимка испуганно осматривается и на всякий случай сдает назад, где вплотную к дороге примыкает осиновый подросток.
– В прошлом годе за грибами ездили, – объясняет он. – Сосна упала – «жигуленка» всмятку… Хорошо, пустой был. – И смеется: – А мужик, видно, того, сдвинулся. Облапил комель и поднять хочет!
– Может, оторвемся, пока не раскисло? – лениво предлагает Колька.
Тимка смотрит на меня, но я молчу.
– Постоим, – говорит он. – После грозы еще поищем.
– Да бросьте вы, мужики! – морщится Колька. – Чего искать-то? Прошлогодний снег? Да и зачем искать?
Я молчу, потому что не знаю зачем. Меня давно тянет к этому месту. Хочу представить, как все это было, и не могу. Как в тридцатиградусный мороз мать лежала на снегу и принимала у себя роды.
Я не знаю зачем, но мне кажется, если я увижу это место, то смогу проникнуть в тайну рождения и бытия. Мне нужны живые свидетели, и не обязательно люди. Людей в тот момент на дороге не оказалось. Но рядом были деревья, была земля, которая все помнит, потому что на нее пролилась кровь.
Из рассказов матери (она не любила вспоминать об этом) я знаю, что Колька родился молча. Хватанул ртом морозного воздуха, задышал, заворочался, но не заревел. И тогда закричала мать: она понимала, что означают схватки после рождения первого. Тимка тоже родился молча, с обвитой вокруг шеи пуповиной. Его пришлось шлепать, трясти, разжимать стиснутый ротик, чтобы дать ему первый глоток воздуха. И когда в морозном лесу зазвенел детский крик, заплакали все вместе, втроем. Потом она закутала двойняшек в пеленки, взятые на одного, в платье, кофту и шаль, прижала сверток к груди, запахнула на груди пальто и побежала…
А еще успела разглядеть, что оба мальчики, что не похожи друг на друга, и смогла запомнить, кто первый и кто второй.
Не один год меня мучает вопрос: что за великая сила помогла ей вынести все это, стерпеть, выжить? Ответ знаю давно – сила материнства. В ней тайна рождения и тайна бытия. Но ответ слишком абстрактный, слишком расплывчатый, да и потерся уже от частого употребления, как золотая монета: не понять, где орел и где решка. Было бы просто, если все свалить на инстинкт. Он движет медведицей, защищающей детеныша, он гонит утку под выстрел и горбушу на икромет. Но у человека все соткано, сопряжено – инстинкт и разум.
Я ходил за ответом в роддом. Пробился всеми правдами и неправдами в святая святых – родильный зал. Видел мучения и ошеломительный момент явления новой жизни, слышал безумные крики от боли и проклятия. Я искал матерей, бросивших детей в роддомах и отказавшихся от материнства. Находил, пытался разговорить, узнать, что же двигало ими? Встречались всякие: одни убивались и каялись, вздрагивали от детского крика и всю жизнь искали в каждом встречном ребенке своего, другие вспоминали своих детей, как вспоминают об отрезанной когда-то косе…
Ответа нет до сих пор, да и вряд ли когда найду. Только знаю, что моей матери ее материнская сила даром не досталась и даром не прошла. Аукнулось спустя несколько лет болезнью неожиданной и несвязуемой с материнством – базедовой болезнью, которая и положила ее на операционный стол…
И знаю еще, что материнская сила беспредельна, но человеческая всегда имеет предел прочности.
…Гром кувыркался в поднебесье, ветер ломал кроны деревьев и зорил птичьи гнезда. Однако едва хлынул дождь, как стало тихо и покойно. Лишь однотонное шуршание ливня и звонкий трепет листьев.
– А ну вас! – вдруг сказал Колька и, выворачивая рукава, содрал с себя рубаху, потом штаны. – Я пойду искупнусь.
Он выскочил под дождь, заорал что-то, засмеялся, разбрызгивая грязь босыми ногами. Через минуту Тимка не выдержал, разделся и, подрагивая белым, незагоревшим телом, боязливо полез из машины. Колька мазнул его грязными руками, они схлестнулись, сцепились и скоро уже катались в теплой луже под громкий рев и хохот…
Хорошо помню суматоху. Дед призывал не суетиться, но сам кричал и суетился больше бабки. Мать уложили на постель, накрыли одеялом, сверху привалили тулупом, однако ее так трясло, что качалась и скрипела кровать. Двойняшек с неотрезанными пуповинами затащили на печь. Они исходили криком, отчего мать, стуча зубами и вытягивая руки, беспрерывно просила:
– Детей, детей сначала, детей…
– Счас, Валь, счас, миленькая, – приговаривал дед, засовывая в печь ковш с водкой. – Дети ничего… Коль живых донесла – ничего…
Баба Оля, отпихивая деда, тащила ухватом чугун с водой и повторяла на одном дыхании: «Господи, спаси, Господи…»
Горячая водка не помогла. Мать по-прежнему лихорадило, с обкусанных губ смазывалась кровь. Дети на печи то утихали, заставляя волноваться мать еще больше, то заливались громко и дружно. Мы с Алькой сидели в «конуре» – запечье с лежанкой – и, вцепившись друг в друга, дрожали от страха.
– Видно, крови много потеряла, – бормотал дед, – оно всегда трясет, когда потеряешь…
– Это горячка, – не соглашалась баба Оля. – Бывает после родов-то, бывает. Да и промерзла, видно…