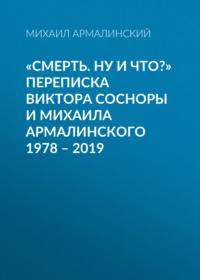Полная версия
Что может быть лучше? (сборник)
Поэт же оказался стойким. После первого шока, который был связан больше с ошеломлением, чем с отвращением – ведь в чрезмерную женскую плоть он всегда стремился, – Поэт оправился достаточно быстро. Для отдохновения глаз он попросил Ли перевернуться на живот, чтобы не видеть его. Но и спина была покрыта громадными сгустками плоти. Зад же у Ли был вполне красив, как её лицо, и анус жадно вбирал Поэтов хуй. Но в стороны от ягодиц, на уровне, где должна была быть талия, расплывалось мясо, и зад напоминал желток в глазунье, красующийся в растёкшемся белке, хотя, разумеется, был не жёлт, а вполне достойного цвета.
Поэт старался смотреть не на окружение, а лишь в жирную точку ануса. Подобное он научился производить и с пиздой – только ею радовался глаз, и потому он вычленял её из тела, по возможности пренебрегая уродливой оправой.
Ли напоминала русалку по тому разочарованию, которое она в себе таила – женщина с отталкивающим телом, к которому влечёт красота её лица. Но благодаря всё-таки наличию двух отверстий Ли была прекраснее любой русалки.
Отправляясь на тайную встречу с Ли, Поэт грезил только этими двумя отверстиями в её необозримом теле. А на обратном пути, потеряв к ним интерес, он размышлял об отвратности остальной её плоти. Но через некоторое время желание возвращалось, и бесформенность мяса начинала даже увлекать Поэта – он говорил себе, что получил то, о чём мечтал: обилие женской плоти, но собранное в кучу.
Что же касается Ли, то она была безмерно счастлива, ибо нашла-таки любовника, да ещё богатого, да ещё Поэта. Хотя за последнее ей пришлось в итоге пострадать, правда хеппиэндно. Ведь всякий поэт по сути своей обладает бурной фантазией, и Поэт, о котором идёт повествование, не был исключением. А фантазии влекут нас жить.
Углубившись в Ли и созерцая её мясо, обхватывая его руками и как бы сгребая к центру, будто это поднимающееся и убегающее тесто, Поэт, как обычно, мечтал о прекрасных линиях тонкой талии да округлых ладных бёдер. Когда же Поэт оказывался в тех же позах со своими красивыми поклонницами, он, уже привычно, представлял на их месте плотеобильную Ли.
В глубине души его тяготила такая двойственность желаний. Насколько было бы беззаботней, думал он, удовлетворяться красавицами, которые у него имелись в избытке, как было бы замечательно, если бы уродство перестало его влечь.
Однажды ему попался в руки журнал, посвящённый художественной татуировке. В нём приводились фотографии различных частей тела с филигранными, изощрёнными работами татуировщиков. На одной спине была вытатуирована танцовщица в ярком платье, с веером и кастаньетами, изгибающаяся и манящая. Эта татуировка натолкнула Поэта на мысль, которая вскоре превратилась в навязчивую фантазию, – а её следовало немедленно воплотить, как он это делал со всеми фантазиями. Но для участия в выполнении этой затеи требовалось согласие Ли. Впрочем, она ради того, чтобы сохранить к себе интерес Поэта, пошла бы на всё, о чём бы он ни попросил. И Поэт об этом без труда догадывался.
Дальше всё дело было за деньгами, которых у Поэта водилось предостаточно. Он связался с татуировочными художниками и выбрал из них лучшего, который писал по телу картины с мельчайшими, точно выведенными деталями. С ним Поэт обсудил не только рисунок, который должен был вытатуировать художник, но и тип туши. В туши состояла особая забота, о которой ниже – она была не менее важна, чем сам рисунок. Художник нашёл специалистов по древним татуировкам из Африки и Южной Америки и получил тушь, за которую Поэт заплатил маленькое состояние. Было известно о секте татуировщиков, на которых не действовал яд самых опасных змей, вследствие чего все почитали их за волшебников и магов. Оказалось, что, постоянно татуируя друг другу изображения на теле, они использовали краску, в которую добавляли крохотные порции яда от разных змей. Регулярно накалывая татуировку такой краской, художники таким образом делали прививки, вырабатывая в себе иммунитет к змеиному яду.
Художник-татуировщик приезжал в особняк Поэта ежедневно в течение нескольких месяцев. Ли пришлось на это время поселиться в особняке, чему она была несказанно рада. Более того, Поэт взял Ли на содержание, так как работать ей в течение этой почти ежедневной и фундаментальной процедуры было просто невозможно. Две служанки, медсестра и врач были приставлены к пациентке, чтобы следить за её самочувствием во время длительного процесса татуировки.
Однако радости у Ли убавилось, когда Поэт объявил ей, что не будет заниматься с ней любовью, пока на её теле ведутся работы, так как не хочет видеть татуировку, пока она не будет полностью закончена. Будучи человеком соболезнующим чужим бедам, Поэт разрешил ей, если удастся, соблазнить художника-татуировщика, чтобы он, имея полный доступ к её телу, мог бы проникать в него не только иголками. Ли жаловалась потом, что всё, к чему ей удалось склонить художника – это получить его позволение удовлетворить его ртом. К остальному её телу мастер не пожелал прикасаться, кроме как иголками.
Поэт тем временем продолжал свою половую жизнь, меняя стройных на толстых и толстых на стройных. Но среди толстых не было такой прекраснолицей и в то же время такой плотеобильной, как Ли.
И вот наступил день, когда можно было принимать работу. Ли волновалась больше всех – она понимала, что от успешности татуировки зависит её будущее с Поэтом. Принятие работы происходило, как и было решено, вечером в спальне. А именно – в действии.
Когда Поэт вошёл в полумрак будуара и взглянул на широкую кровать с балдахином, он прежде всего увидел на мягко подсвеченной подушке красивое лицо Ли. Издали обнажённое тело её испускало туманный свет, ибо краски, которые использовал татуировщик, были, по договору, флюоресцирующие. Подойдя ближе к кровати, Поэт увидел произведение искусства: на кровати лежало идеальной формы женское тело с головой Ли: на бескрайней плоти была вытатуирована тонкая талия, небольшие груди, пропорциональные полные бёдра, нежный живот с пупком посередине. Эта картина занимала, наверно, лишь десятую часть плоти Ли, которая была не видна за пределами светящейся розовой татуировки. Очертания длинных стройных ног соединялись татуировкой бёдер так, что лобок и пизда совпадали по месту с границами татуировки. Поэтому, когда Поэт попросил Ли развести ноги, ему открылся вид, вполне соответствующий мастерски изображённому роскошному телу.
– Повернись на живот, – скомандовал Поэт, и Ли медленно, с огромным усилием перевернула свою плоть. По пути, когда она оказалась на боку, светящаяся стройная фигура вдруг обнаружила свои границы – на боках ничего татуированного не было, и в полумраке он предстал тёмным пятном, затмившим линию края красоты. Но через мгновение, когда Ли перевалилась на живот, глазам Поэта открылась вторая половина дивной фигуры, вытатуированной на спине, ягодицах, ногах. Художник поработал не только над совершенством очертаний, но и над фактурой кожи – её цвет поглощал все неровности, бугры и впадины плоти Ли, попадавшие внутрь изображения прекрасного тела. Как спереди, так и сзади главное отверстие бёдер оказывалось точно в нужном месте светящейся плоти.
Удовлетворённый увиденным, Поэт должен был теперь насытиться прочувствованным – он сбросил с себя шёлковый халат, подошёл к лежащему на животе телу, раскрыл светящиеся ягодицы, положив руки не внутри татуированных идеальных очертаний, а вне их, на свисающую плоть. Между ягодиц зиял мрак, в котором он умел перемещаться на ощупь. И вот Поэт замер в глубине, охватывая руками чрезмерную плоть, но видя перед глазами сияющее совершенство меры.
Затем он попросил Ли перевернуться на спину (для чего ему пришлось сойти с кровати, потому что места для Поэта при перевороте не хватало), и насладиться зрелищем спереди и ощущениями входа в творилище будущего.
Счастливая Ли спрашивала:
– Как я тебе нравлюсь?
– Ты прекрасна! – искренне восклицал Поэт, распахнув руки, чтобы держаться за её бока. Он осторожно прикасался к нарисованному, боясь что-либо повредить, смазать, будто это был свеженаписанный холст.
Как прекрасен был теперь лик тела! Каким особо восторженным было теперь ощущение огромности плоти!
Казалось бы, мечта Поэта свершилась – в одной женщине он нашёл воплощение двух своих противоположных устремлений.
Для Ли это тоже была победа – она поняла, что теперь Поэт принадлежит ей больше, чем прежде, и доказательством этому было то, что он оставил её жить в своём особняке, отведя целый этаж в её распоряжение – меньшее пространство стало бы для её тела тюремной камерой.
Но последствия татуировки на этом не закончились, а только начинались. Светящаяся тушь была полна других свойств, которые вскоре начали вступать в действие. Линии, являвшиеся границами силуэта красивого женского тела, стали работать как медленные ножи. Химический состав краски, которой они накалывались, был таков, что она медленно разъедала плоть, но только в том месте, где эта линия была наколота. Этот процесс сопровождался бы ужасной болью, если бы в состав туши не входили сильные болеутоляющие вещества. В течение долгого времени татуировки организм наполнялся веществами, которые выработали иммунитет к боли на несколько недель, чего должно было вполне хватить для полного осуществления плана. В течение этого времени Ли находилась как бы в полусне. Служанки делали ей массаж, переворачивали, сестра следила, чтобы у неё не возникло пролежней и заставляла Ли подниматься с кровати и ходить. Врач пристально наблюдал за всеми функциями организма.
Вскоре татуированные линии, дававшие очертания прекрасного тела, превратились в глубокие порезы. Они не кровоточили, потому что порезы увеличивались достаточно медленно, и тело успевало заживать по мере их углубления с двух сторон: спереди и со спины. Разрезы шли в теле встречно, как строители, с двух сторон прорубающие тоннель.
Поэт объяснил Ли, что таким образом удастся избавить её от лишней плоти, и Ли, полностью доверяя Поэту, принимала всё исходящее от него как должное, тем более, когда она не испытывала никакой боли.
Наконец наступил момент, когда в самом тонком месте тела – на руках – разрезы соединились, и часть плоти, словно рукава, осталась лежать на постели, когда Ли подняла руки. Они ей казались теперь такими лёгими и сильными. Врач аккуратно отрезал отвалившуюся плоть от той её части, которая ещё держалась, но вскоре должна была тоже отпасть.
Одним утром Ли пробудилась, потянулась и, как выспавшаяся красавица, села на кровати, небывало стройная и лёгкая. Её отрезанная татуировкой плоть осталась лежать на простыне, как тесто, из которого вырезали женскую фигурку одним нажимом формочки. Ли была настолько счастлива своей лёгкостью, подвижностью и абсолютной новизной ощущений, что она даже не обращала внимания на Поэта, любовавшегося ею, и на врача, который пытался рассмотреть все «срезы» тела Ли. После освобождения от лишней плоти оставшееся тело обрело особую чувствительность – при прикосновении к своему периметру Ли ощущала боль, как от касания к не до конца зажившей ране, которая затянулась ещё лишь очень тонким слоем кожи. Поэтому, чтобы избежать всяких прикосновений к торцу тела, она ходила совершенно обнажённая с растопыренными руками и ногами, чтобы ноги не тёрлись друг о друга, а руки – о бока.
Поэт боялся к ней подступиться, по привычке раскрывал объятья для необозримой плоти и обнимал воздух.
Через неделю Ли исчезла, оставив записку, где благодарила Поэта за подаренную ей новую жизнь, которую она хочет начать заново, причём в другом городе. Она просила не обижаться на неё, обещала, что вернётся – просто ей необходимо побыть наедине с собой и потом заново войти в человеческое общество иной женщиной.
Поэт воспринял исчезновение Ли в высшей форме поэтически, другими словами – философски, хотя не поверил в её обещание вернуться. В нём тоже, показалось ему, произошли перемены, и его неистребимая тяга к толстым женщинам постепенно исчезла. Женская красота перестала быть для него противоречивой из-за постоянного требования её отрицания, и Поэт чуть было не женился на одной из самых популярных кинозвёзд. Однако по зрелому размышлению он решил повременить, когда к нему стала проявлять неотступный интерес знаменитая и не менее красивая журналистка. Но и на журналистке, писавшей замечательные статьи о его книгах, он тоже решил не жениться. Вместо этого он написал книгу весьма проникновенных стихотворений о женской плоти.
Через год к воротам поместья Поэта подъехал автофургон. Шофёр и пассажир долго что-то объясняли охраннику. Охранник связался с начальником, а тот – с самим Поэтом, который приказал пропустить приехавших визитёров. Когда автомобиль остановился у парадного подъезда, Поэт вышел из дверей. Он увидел с трудом вылезающую из автобусика Ли. На ней опять было широкое платье, но теперь даже оно не могло скрыть обилия плоти, которая вновь наросла на ней. Поэт бросился навстречу Ли и обнял частицу её огромного тела.
Любимый вальс
Памяти И.Я.А.
Впервые опубликовано в General Erotic. 2000. № 28.
С первого класса родители записали меня в кружок музыки, который проводился после уроков два раза в неделю. Моя пианинная игра, согласно родительским надеждам, должна была когда-то превратиться в рояльную. А пока занятия проходили в бывшей уборной в конце длинного коридора на первом этаже школы. Начальство решило, что вполне достаточно уборных на остальных четырёх этажах. Благодаря такому мудрому решению удалось изъять раковины и унитазы, кое-как заделать дыры в полу и втиснуть туда старое пианино. Однако лёгкий запашок в этом музыкальном классе всегда оставался, напоминая, на каком фундаменте стоит искусство.
Учительницей моей была Римма Львовна, которой было тогда под сорок. Она была высокая, худощавая с прямой спиной. А также добрая и любящая своих учеников, каждого звала «голубчик». Все годы, что я её знал, она носила одну и ту же причёску: пробор посередине, гладкие длинные волосы, прижатые к голове, убраны назад, но по пути полностью закрывающие уши. А на затылке волосы были собраны в небольшой низкий витиеватый узел, проткнутый шпильками.
На стене над пианино Римма Львовна вывесила портреты в рамочках – Чайковского, Мусоргского, Глинки, Глазунова, Римского-Корсакова и Моцарта. Ощущение мощи «Могучей кучки» плюс Моцарт врезалось в память. Под их величественными обликами я разучивал пьесу: «Жили у бабуси два весёлых гуся».
Когда ученик приходил чуть раньше или Римма Львовна задерживалась с предыдущим учеником, ожидающему позволялось сидеть в музыкальной комнате на стуле и дослушивать чужой урок.
Так однажды произошло и со мной. Когда я вошёл в бывшую уборную, я увидел Римму Львовну, наклонившуюся над своей ученицей в коричневом форменном платьице и белом переднике, сидящей за пианино. Римма Львовна показывала пальцем строчку в нотах, стоявших на пюпитре. Ученица быстро оглянулась на меня, вошедшего, и снова повернулась к нотам. Римма Львовна сказала мне:
– Здравствуй, Славик, садись, голубчик, и жди, мы уже заканчиваем.
Увидев лицо ученицы, я почувствовал, как у меня задрожали ноги, и я плюхнулся на стул. Такой красоты я в своей семилетней жизни ещё не видел.
– Лиля, ты поняла, здесь надо играть анданте? – спросила Римма Львовна.
Девочка кивнула головой.
– Хорошо, сыграй ещё раз, сначала.
То, что я услышал, потрясло меня вконец. Волшебная грустная мелодия зазвучала из-под пальцев девочки – ещё никогда я не испытывал такого сильного ощущения от музыки.
Я сидел в полубессознательном состоянии. Девочка была лет на пять старше меня и виделась мне богиней, тогда я ещё не знал, богиней чего.
Когда она ушла, я сидел в трансе, пока меня не окликнула Римма Львовна:
– Голубчик, ты что, заснул?
В конце урока я осмелился спросить, как называется вещь, которую играла Лиля.
– Это «Вальс» Хренникова. Тебе он понравился?
– Очень. А когда я смогу это играть? – замечтал я.
– Я думаю, через несколько лет. Зависит от того, как ты будешь стараться.
И я начал стараться. Научиться играть этот вальс стало основным стимулом продолжения моих занятий музыкой.
Через два года я спросил Римму Львовну, можно ли мне уже разучивать «Вальс» Хренникова, но разрешения не получил, и пришлось ждать ещё несколько лет. За всё это время я видел Лилю не так уж и много. Она стала заниматься по другому расписанию, и я уже не сталкивался с ней на уроках музыки. Иногда я наблюдал за ней на переменках, гуляющей с подружками по коридору. Но гарантированная встреча у нас была раз в году, весной, перед окончанием школы, когда проходил экзамен, который устраивала Римма Львовна. Она делала из него торжественный концерт, на который приходили родители учеников и даже их знакомые и родственники. Экзамен происходил в спортивном зале школы, в который вкатывали пианино и вносили длинные скамейки, на которые усаживались зрители и экзаменуемые. Справа от пианино за столом сидела Римма Львовна, её взрослый сын, который закончил консерваторию, завуч школы и представитель родительского комитета.
Римма Львовна называла фамилию экзаменуемого ученика и три вещи, которые он будет играть. Ученик вставал со скамейки и, трепеща, шёл к пианино. Учеников было не менее двадцати. После того, как концерт заканчивался, наступал перерыв, в течение которого жюри должно было выставить оценки, а все отмузыцировавшие бросались на школьный двор играть в «Али-Баба». Лиля была самой старшей, и она всегда затевала эту игру. Под её руководством все выстраивались в два ряда, один напротив другого. В каждом ряду все крепко брались за руки.
Лиля кричала, и её ряд ей вторил:
– Али-Баба!
Из другого ряда отвечали:
– Чего, кума?
Лиля, улыбаясь, громко выдвигала требование:
– Тяни рукава!
– С какого бока? – во весь голос вопрошали напротив.
– Слева направо Славу нам надо! – кричал ряд напротив меня с чудесным голосом Лили.
Я освобождал руки и бежал в ряд напротив, стараясь разорвать цепь. Я устремлялся в центр, где стояла Лиля. Мне удавалось разорвать сцепление рук, и поэтому я имел право взять к нам в ряд либо Лилю, либо стоявшего рядом с ней. Конечно же я выбирал Лилю и вёл её в нашу команду, как самый дорогой трофей. Она вставала рядом со мной, и мы крепко брались за руки. И это было счастьем.
Выигрывал тот ряд, который мог таким способом пополниться всеми, кроме одного последнего, из противоположного ряда.
Но нам никогда не удавалось доиграть до конца, так как заседание жюри кончалось, и нас приглашали обратно в школу. Там нам объявляли оценки, которые содержали плюсы и минусы. Просто пятёрка была недостаточна для тщеславия музыкальных исполнителей. Лиля всегда получала пять с плюсом.
Так мы регулярно встречались из года в год, и всегда она в какой-то момент игры выкликивала меня, и я бежал разорвать именно её звено. А когда я кричал, то я звал Лилю, и она бежала именно туда, где стоял я.
С каждым годом Лиля становилась всё красивее, у неё выросла высокая грудь и раздались бёдра. И с каждым годом мне это нравилось всё больше и больше.
Наконец Римма Львовна разрешила мне разобрать «Вальс» Хренникова. Для того чтобы достать ноты, которых в магазине не было, мне пришлось поехать в музыкальную библиотеку и самому копировать пять страниц, накладывая кальку с проведёнными карандашными линями, на которые я переводил ноты. Потом эту кальку я наклеил на листы бумаги, чтобы она не просвечивала. Это было в те времена, когда копировальные машины существовали только в КГБ.
По этой самодельной копии я разучивал свою музыкальную мечту. К тому времени Лиля уже закончила школу, и Римма Львовна как-то сказала мне, что Лиля вышла замуж.
Всякий раз, когда я слышал или играл этот вальс, я думал о Лиле. Думал я о ней и в другие времена, когда делал свои первые поползновения на девочек.
Однажды, когда я пришёл на очередной урок, уже заучив наизусть «Вальс» Хренникова, и открыл дверь в класс, бывший туалет с тем же невыветриваемым запахом, я увидел Лилю, разговаривающую с Риммой Львовной.
– Здравствуй, Слава! – обрадовалась мне Лиля. – Какой ты стал большой.
– Привет, – сказал я, – ты тоже.
Лиля и Римма Львовна рассмеялись.
– А я вот соскучилась, пришла посмотреть, как вы живёте, – сказала Лиля, глядя то на меня, то на Римму Львовну. – Можно мне послушать, как Слава играет?
– Конечно, голубчик, конечно. Мы с тобой уже поговорили, сиди, слушай, что он играть будет.
И я заиграл «Вальс» Хренникова. Когда я закончил, Лиля захлопала в ладоши:
– Молодец, хорошо сыграл, с душой! Как я люблю этот вальс! – воскликнула Лиля.
– И я люблю, – сказал я, вкладывая в это слово смысл, выходящий далеко за музыкальные пределы.
Когда урок закончился и я стал собираться уходить, Лиля встала и сказала Римме Львовне, что ей пора. Да и новая ученица уже ждала своей очереди.
Мы вышли вместе с Лилей в коридор. Сердце моё носилось по всему телу.
– Что ты так на меня смотришь? – игриво спросила Лиля.
– Ты очень красивая стала, – сказал я, глядя ей в глаза, пылая лицом.
– Ты тоже стал взрослым, – сказала она и добавила: – Почти.
Мы подошли к раздевалке, нянечки не было, она всегда уходила к концу дня.
Мы углубились в раздевалку, я нашёл свою куртку. Лиля сняла с крючка свою шубку и накинула на плечи. Вдруг я почувствовал её руку у себя между ног.
– Иди сюда, я тебя взрослым сделаю, – шепнула она и оглянулась, нет ли кого вокруг.
Она опустилась на колени, ловко расстегнула мне ширинку, вытащила из-под широких трусиков мой сразу вскочивший хуёк и взяла его в горячий влажный рай. В потолке раздевалки распахнулись небеса и божество дало мне вкусить его благости.
Эти ощущения, несмотря на огромность силы, по сути, не были новыми для меня, ибо я уже несколько лет занимался онанизмом. Чудо оргазма я про себя называл «ебеня», не будучи тогда знакомым с научной терминологией, но чувствуя необходимость дать ему название. Играя во дворе с ребятами, я нередко ощущал непреодолимую похоть и прерывал игру – я убегал в парадное, сбегал по пролёту лестницы, ведущей в подвал, куда никто в темноту не спускался, кроме дворника, вытаскивал свой хуёк и давал ему жару, а он – мне.
Некоторое время назад он стал выплёскивать семя, что меня поначалу удивило, а потом стало удручать неудобством его куда-то девать, чтобы не было мокро в трусах. Однажды я даже попытался, ожидая выплеска, зажать пальцем дырочку, не пуская семя наружу, но острая боль от распирающего канал семени заставила меня палец поскорее убрать и выпустить жидкость на свободу. Я попробовал её на вкус, лизнув палец, но вкусной она мне не показалась. И вот теперь в те божественные мгновения, когда Лиля вершила со мной чудеса, озабоченная мысль пронеслась среди наслаждения: как бы Лиля не отпрянула от меня в отвращении, когда выплеснется семя. Оно не заставило себя долго ждать и зафонтанировало в Лилин рот, который только ещё более жадно стал его засасывать. Двойное облегчение окатило меня.
Лиля поднялась с колен, облизывая губы и проверяя рукой лицо, не осталось ли что снаружи.
– Пошли отсюда скорее, – шепнула она и вышла из раздевалки. Я, всё ещё приходя в себя, с восторженной лёгкостью в теле выбежал за ней. Коридор был пуст, только в другом конце его, за дверью бывшего туалета, раздавались звуки пианино.
Мы вышли на улицу.
– Застегни ширинку, Славик, – указала глазами Лиля.
Я поспешно отошёл к углу дома и дрожащими пальцами застегнул пуговицы.
– Вот ты и стал мужчиной, – сказала Лиля и добавила: – Почти.
Она по-доброму засмеялась.
Мы шли к трамвайной остановке. Я чувствовал, что должен что-то сказать, но не знал, что в такой ситуации следует говорить, а точнее, после такой ситуации.
– Можно я тебе позвоню? – спросил я Лилю.
– Славик, я ведь замужем. Да и тебе нужно школу кончать.
Я никак не мог уловить логической связи между этими двумя предложениями.
Тут подошёл трамвай, и Лиля сказала:
– Мы с тобой обязательно увидимся когда-нибудь, будь хорошим мальчиком, – и побежала к трамваю.
Но мы с ней больше не увиделись, и хорошим мальчиком я быть перестал, так как девочки заинтересовали меня значительно больше музыки. Впрочем, это, наверно, и значит – быть хорошим мальчиком.
Закончив седьмой класс, я ушёл из этой школы, и мои занятия музыкой прекратились. Приблизительно раз в год я случайно встречался на улице с Риммой Львовной, и мы минуту-две разговаривали об идущей жизни. Она рассказывала о музыкальных успехах своего сына, ставшего известным музыкантом. А я всегда успевал спросить, как поживает Лиля. Оказывается, она не забывала свою учительницу музыки и часто приходила к ней повидаться. У Лили родился мальчик, потом девочка. Римма Львовна каждый раз интересовалась, продолжаю ли я играть на пианино. И я действительно старался не забывать своих музыкальных навыков, а «Вальс» Хренникова никогда не выходил из моего репертуара.