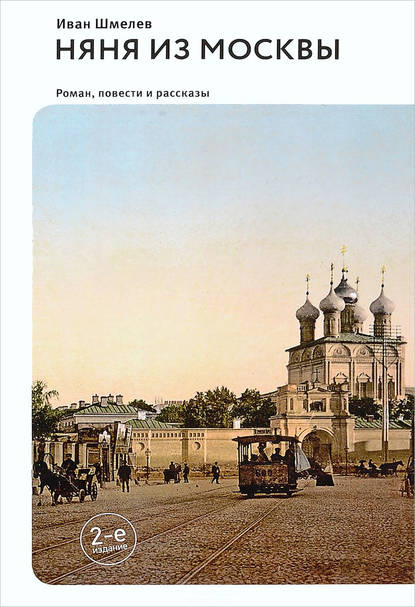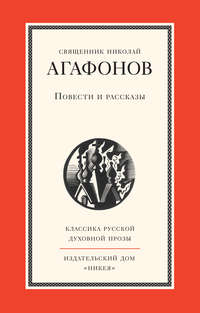Полная версия
Непридуманные истории (сборник)
– Хорошо, поедем, поедем, – захлопотал отец Федор. – Только ладан да кадило возьму.
– Возьми, батюшка, возьми, родненький, все, что тебе надо, а я пожду здесь, за калиткой.
Отец Федор быстро собрался и через десять минут вышел. У калитки его ждал внук Марии на мотоцикле «Урал». Позади его примостилась Мария, оставив место в коляске для отца Федора. Отец Федор подобрал повыше рясу, плюхнулся в коляску:
– Ну, с Богом, поехали.
Взревел мотор и понес отца Федора навстречу его роковому часу. Около дома Евдокии Кривошеиной толпился народ. Дом маленький, низенький, отец Федор, проходя в дверь, не нагнулся вовремя и сильно ударился о верхний дверной косяк; поморщившись от боли, пробормотал:
– Ну что за люди, такие низкие двери делают, никак не могу привыкнуть.
В глубине сеней толпились мужики.
– Отец Федор, подойди к нам, – позвали они.
Подойдя, отец Федор увидел небольшой столик, в беспорядке уставленный стаканами и нехитрой закуской.
– Батюшка, давай помянем Пашкину душу, чтоб земля была ему пухом.
Отец Федор отдал Марии кадило с углем и наказал идти разжигать. Взял левой рукой стакан с мутной жидкостью, правой широко перекрестился:
– Царство Небесное рабу Божию Павлу, – и одним духом осушил стакан.
«Уже не та, что была у парторга», – подумал он. От второй стопки, тут же ему предложенной, отец Федор отказался и пошел в дом.
В горнице было тесно от народа. Посреди комнаты стоял гроб. Лицо покойника, еще молодого парня, почему-то стало черным, почти как у негра. Но вид был значительный: темный костюм, белая рубаха, черный галстук, словно и не тракторист лежал, а какой-нибудь директор совхоза. Правда, руки, сложенные на груди, были руками труженика, мазут в них до того въелся, что уже не было никакой возможности отмыть.
Прямо у гроба на табуретке сидела мать Павла. Она ласково и скорбно смотрела на сына и что-то шептала про себя. В душной горнице отец Федор почувствовал, как хмель все больше разбирает его. В углу, около двери и в переднем углу, за гробом, стояли бумажные венки. Отец Федор начал панихиду, бабки тонкими голосами подпевали ему. Как-то неловко махнув кадилом, он задел им край гроба. Вылетевший из кадила уголек подкатился под груду венков, но никто этого не заметил.
Только отец Федор начал заупокойную ектенью, как раздались страшные вопли:
– Горим, горим!
Он обернулся и увидел, как ярко полыхают бумажные венки. Пламя перекидывалось на другие. Все бросились в узкие двери, в которых сразу же образовалась давка. Отец Федор скинул облачение, стал наводить порядок, пропихивая людей в двери. «Вроде все, – мелькнуло у него в голове. – Надо выбегать, а то будет поздно». Он бросил последний взгляд на покойника, невозмутимо лежащего в гробу, и тут увидел за гробом сгорбившуюся фигуру матери Павла – Евдокии. Он бросился к ней, поднял ее, хотел нести к двери, но было уже поздно, вся дверь была объята пламенем. Отец Федор подбежал к окну и ударом ноги вышиб раму, затем, подтащив уже ничего не соображавшую от ужаса Евдокию, буквально выпихнул ее из окна.
Потом попробовал сам, но понял, что в такое маленькое окно его грузное тело не пролезет. Стало нестерпимо жарко, голова закружилась; падая на пол, отец Федор бросил взгляд на угол с образами – Спаситель был в огне. Захотелось перекреститься, но рука не слушалась, не поднималась для крестного знамения. Перед тем как окончательно потерять сознание, он прошептал:
– В руце Твои, Господи Иисусе Христе, предаю дух мой, будь милостив мне, грешному.
Икона Спасителя стала коробиться от огня, но сострадательный взгляд Христа по-доброму продолжал взирать на отца Федора. Отец Федор видел, что Спаситель мучается вместе с ним.
– Господи, – прошептал отец Федор, – как хорошо быть всегда с Тобой.
Все померкло, и из этой меркнущей темноты стал разгораться свет необыкновенной мягкости, все, что было до этого, как бы отступило в сторону, пропало. Рядом с собой отец Федор услышал ласковый и очень близкий для него голос:
– Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
Через два дня приехал благочинный, отец Леонид Звякин, и, вызвав из соседних приходов двух священников, возглавил чин отпевания над отцом Федором. Во время отпевания церковь была заполнена до отказа народом так, что некоторым приходилось стоять на улице. Обнеся гроб вокруг церкви, понесли его на кладбище. За гробом, рядом со звонарем Парамоном, шел его внук Петя. Взгляд его был полон недоумения, ему не верилось, что отца Федора больше нет, что он хоронит его. В Бузихино на день похорон были приостановлены все сельхозработы. Немного посторонясь, шли вместе с односельчанами председатель и парторг колхоза. Скорбные лица бузихинцев выражали сиротливую растерянность. Хоронили пастыря, ставшего за эти годы всем односельчанам родным и близким человеком. Они к нему шли со всеми своими бедами и нуждами, двери дома отца Федора всегда были для них открыты. К кому придут они теперь? Кто их утешит, даст добрый совет?
– Не уберегли мы нашего батюшку-кормильца, – причитали старушки, а молодые парни и девчата в знак согласия кивали головами: не уберегли.
В доме священника для поминок были накрыты столы лишь для духовенства и церковного совета. Для всех остальных столы поставили на улице в церковной ограде, благо погода была хорошая, солнечная.
Прямо возле столов стояли фляги с самогоном, мужики подходили и зачерпывали, кто сколько хочет. Около одного стола стоял Василий, брат парторга, уже изрядно захмелевший, и объяснял различие между самогоном и водкой.
– А что ты в деревню не вертаешься? – вопрошали мужики.
– Э-э, братки, а жена-то! Она же у меня городская, едрена вошь! Так и хочется выругаться, но нельзя, покойник особый! Мировой был батюшка, он не велел – и не буду, но обидно, что умер, потому и ругаться хочется.
За другим столом Захар Матвеевич, сварщик с МТС, рассказывал:
– Приходит как-то ко мне отец Федор, попросил пилку. Ну мне жалко, что ли? Я ему дал. Утром пошел в сад, смотрю: у меня все яблони обработаны, чин чинарем. Тут я сообразил, для чего он у меня пилку взял: заметил, что я давно сад запустил, он его и обработал. Ну где вы еще такого человека встретите?
– Нигде, – соглашались мужики. – Такого батюшку, как наш покойный отец Федор, во всем свете не сыщешь.
В доме поминальная трапеза шла более благообразно, нежели на улице. Все молча кушали, пока наконец батюшка, сидевший рядом с благочинным, не изрек:
– Да, любил покойничек выпить, Царство ему Небесное, вот это его и сгубило. Был бы трезвый, непременно выбрался бы из дома, ведь никто больше не сгорел…
– Не пил бы отец Федор, так и пожара бы не случилось, – назидательно оборвал благочинный.
На сороковой день мужики снова устроили грандиозную пьянку на кладбище, проливая хмельные слезы на могиле отца Федора.
Прошел ровно год. Холмик над могилой отца Федора немного просел и зарос пушистой травкой. Рядом стояла береза, за ней, в сооруженном Петькой скворечнике, жили птицы. Они пели по утрам над могилой. По соседству был захоронен тракторист Павел. В день годовщины около его могилы сидела, сгорбившись, Евдокия Кривошеина. Она что-то беззвучно шептала, когда к могиле отца Федора подошел Петя. На плече у него была удочка, в руках пустой мешочек.
– Эх, тетя Дуся, – с сокрушением вздохнул Петя, – хотел отцу Федору принести карасиков на годовщину, чтоб помянули, он ведь очень любил жареных карасей в сметане. Так на прошлой неделе Женька Путяхин напился и с моста трактор свалил в пруд вместе с тележкой, а она полная удобрений химических. Сам-то он жив остался, а рыба вся погибла.
Петя еще раз тяжело вздохнул, глядя на могилу отца Федора. На могиле лежали яички, пирожки, конфеты и наполовину налитый граненый стакан, покрытый сверху кусочком хлеба домашней выпечки. Петя молча взял стакан, снял с него хлеб, в нос ударил тошнотворный запах сивухи; широко размахнувшись рукой, он далеко от могилки выплеснул содержимое стакана. Затем достал из-за пазухи фляжку, в которую загодя набрал чистой воды из родника, что за селом в Большом овраге, наполнил водой стакан, положил снова на него хлеб и осторожно поставил на могильный холмик.
Затем внимательно взглянул на портрет на дубовом восьмиконечном кресте. С портрета на него смотрел отец Федор, одобрительно улыбаясь. Петя улыбнулся отцу Федору в ответ, а по щекам его текли чистые детские слезы.
1990. Волгоград
Друзья
Архиепископ Палладий сидел в своем любимом кресле, углубившись в чтение толстого литературного журнала. Вечерние часы по вторникам и четвергам он неизменно отдавал чтению современной прозы, считая, что архиерей обязан быть в курсе всех литературных новинок. Взглянув в угол на напольные часы, снял очки и, отбросив журнал, с раздражением подумал: «Чего это сын киргизского народа полез в христианскую тему? Какое-то наивное подражание Булгакову… Да и главный герой, семинарист Авель, какой-то неправдоподобный. Хотя бы съездил в семинарию, посмотрел. Наверное, мусульманину тоже становится смешно, когда приходится читать писателя-христианина, пытающегося наивно импровизировать на тему магометанства».
Его размышления прервал телефонный звонок. Владыка поднял трубку и важно произнес:
– Я вас слушаю.
– А я вот говорю и кушаю, – раздалось в трубке, и следом послышался смех.
Владыка, растерявшись вначале от такой наглости, услышав смех, сразу признал своего друга и однокашника по семинарии митрополита Мелитона и, расплывшись в улыбке, в том же тоне отвечал:
– Приятного аппетита, владыко, но будь осторожен, так подавиться недолго.
– Не дождетесь, не дождетесь, – рассмеялся митрополит.
– Ну, не тяни резину, говори: с хорошим аль с плохим звонишь?
– А это с какой стороны посмотреть: для меня – так с хорошим, а тебе – одни хлопоты.
– Чего это? – забеспокоился Палладий.
– Да вот в отпуск у Святейшего отпросился, еду к тебе в гости.
– О преславное чудесе! Мелитоша, дорогой, наконец-то ты вспомнил своего друга.
– Не юродствуй, брат, мы с тобой каждый год в Москве видимся.
– На то она и Москва, а к себе в гости заманить тебя никак не удавалось, а уж как белый клобук получил – совсем занятым стал, ну да, видать, Господь услышал молитву мою.
Владыка лично поехал на вокзал встречать дорогого гостя. Митрополит вышел из вагона не в архиерейском облачении, а в длинном летнем плаще, лакированных черных ботинках и сером берете, так как визит его был неофициальным. Но шлейф запаха розового масла и дорогих благовоний стелился за ним, как невидимая архиерейская мантия. Палладий тоже был в цивильном. Они крепко обнялись и расцеловались. Архиерейский водитель Александр Павлович, взяв один из двух здоровенных чемоданов у келейника митрополита, устремился вперед к машине, келейник кинулся вслед за ним. Вокзал был полон народу, но архиереи, не обращая ни на кого внимания, неторопливо шли с такой важностью и уверенностью, как будто они шествовали по своему собору к кафедре. И люди, чувствуя исходящую от этих двух импозантных бородачей власть, безропотно уступали дорогу.
Обед, начавшийся в архиерейских покоях, плавно перешел в ужин.
– А теперь, владыко, отведай вот это блюдо, рецепт его ты не найдешь ни в одной поваренной книге.
– Сжалься надо мной, – взмолился митрополит. – Неужто решил меня прикончить таким способом? Все очень вкусно, просто нет слов, и ты знаешь, я никогда не страдал отсутствием аппетита, но, увы, это сверх моих сил.
– Тогда пойдем, владыко, в беседку пить чай.
Круглый стол в беседке весь был уставлен сладостями и фруктами. Но оба архиерея не притронулись к десерту и, попивая душистый чай с мятой, завели оживленную беседу на тему: «А ты помнишь?»
– А ты помнишь, – восклицал один, – профессора такого-то?
– А как же! – отвечал другой. – Умнейший был преподаватель, Царство ему Небесное, таких уж сейчас профессоров нет. А ты помнишь архимандрита Варсонофия?
– А как же! Великий был старец. Помню, как-то подошел он ко мне и говорит…
Темный сад окутала ночная тьма, легкий ветерок разогнал сгустившийся над клумбой цветочный запах, который достиг беседки. Владыка вдохнул полной грудью прохладу вечера и произнес:
– Благодать у тебя, Палладий… Вели-ка ты постелить мне в саду.
– Ну что ты, владыко, еще какая муха или комар укусит тебя, а мне потом отвечать перед Синодом. Пойдем, брат, наверх, там тоже прохладно и свежо. Утром после завтрака едем в лес за грибами.
Рано утром митрополит проснулся от громких голосов во дворе. Взглянув в окно, увидел, как Палладий лично отдает распоряжения во дворе своему водителю Александру Павловичу, чтобы тот ничего не забыл. Увидев Мелитона, крикнул:
– Доброе утро, владыко, через полчаса завтрак.
Когда собрались, Палладий, посмотрев на ботиночки митрополита, изрек:
– Для леса обувка не подойдет. Тащи, Александр Павлович, мои старые боты. Поедем в лес не на «Волге», а вот на этом вездеходе, – указал владыка на стоящий во дворе темно-зеленый «уазик». – Военные списали, а я у них купил, специально, чтобы на рыбалку и по грибы ездить. Машина – зверь, никакого бездорожья не боится.
Когда свернули с дороги в лес, по стеклам машины захлестали упругие ветви деревьев.
– Нет, ты только гляди, – хвалился владыка, – ей все нипочем.
Заметив, что Александр Павлович собирается объезжать здоровую лужу, митрополит съехидничал:
– А вот и почем.
– Езжай, Павлович, прямо! – взревел уязвленный Палладий.
Водитель покорно поехал в лужу, «уазик» заехал почти по брюхо в грязь и забуксовал.
– Что теперь прикажете делать? – кисло улыбнулся митрополит.
– Прикажу включить блокировку и пониженную передачу, – пряча свое волнение и неуверенность в нарочито пафосном тоне, произнес Палладий.
Водитель переключил два рычажка, и машина, зарычав сердито, поползла по грязи, все увереннее набирая ход.
– Действительно, машина – зверь, – восхитился митрополит.
– То-то, владыко, – торжествовал Палладий.
Выехав на солнечную поляну, окруженную с одной стороны елями, с другой – березами, остановились.
– Вот там, в ельничке, маслят пособираем, а в березовый за белыми пойдем.
Маслят действительно набрали за час по полной корзине. А вот белых архиепископ только штук пять нашел, да с полкорзинки подберезовиков и подосиновиков. Митрополит и вовсе три гриба отыскал.
– Да, – сокрушался Палладий, – кто-то здесь до нас потрудился. В прошлом году, веришь ли, владыко, пять полных корзин на этом месте взял. Пойдем обедать, а после обеда еще в одно место проедем.
На поляне бессменный водитель, он же старший иподиакон архиепископа Александр Павлович, уже накрыл обед на раскладном столике, приставив к нему два походных раскладных креслица. Из термоса разлил суп с фрикадельками из осетрины, на второе – судак, запеченный в яйце.
Владыка Палладий достал маленькую походную фляжку из нержавейки и разлил в пластмассовые кружечки душистый коньяк.
– Ну, владыко митрополит, благослови нашу походную трапезу.
Митрополит повернулся на восток, прочел молитву и благословил стол.
– Что-то так хорошо здесь, может, не поедем больше никуда? – предложил он.
– Сделаем три кущи: мне, тебе и Александру Павловичу – и будем здесь жить, – засмеялся Палладий. – Вчера в саду рвался остаться, сегодня в лесу. Из тебя не синодал, а анахорет-пустынник неплохой получился бы.
– Такое житие надо было от юности выбирать, а сейчас мы с тобой только в архиереи годимся. Из нас, наверное, и путных настоятелей не выйдет.
– Твоя правда, владыко, никуда мы больше не годимся, – поддакнул Палладий, выпивая коньячок.
После обеда, попив кофейку, владыки прогуливались по поляне, пока Александр Павлович убирал посуду и раскладную мебель в багажник. Затем все сели в зверь-машину и поехали по лесной просеке вглубь леса. Побродили по лесу полчаса и, ничего не обнаружив, решили возвращаться домой.
Вдруг владыка Палладий неожиданно спросил водителя:
– Слушай, Александр Павлович, а что за этими холмами, мы ни разу туда не ездили?
– Там, владыко, прекрасная дубовая роща.
– Все, едем туда, – распорядился архиерей.
Прямо перед ними был высокий холм. Круто вверх на него уходила дорога, но было сразу заметно, что по ней мало кто ездил. Измерив глазом дорогу, Александр Павлович предложил:
– Давайте, владыко, в объезд, тут километров пятнадцать – двадцать будет, подъем затяжной и очень крутой, здесь можем не вытянуть, двигатель поизносился, слабоватый.
– Ну вот тебе и хваленая машина, – стал подтрунивать митрополит.
– Благословляю напрямую, – решительно сказал уязвленный архиепископ Палладий.
– Как благословите, владыко, – покорно вздохнул Александр Павлович.
«Уазик» взревел и понесся в гору, но с каждой минутой уверенный ход его становился все тише. Александр Павлович переключился на первую скорость, до спасительной вершины оставалось метров пятьдесят, когда на дорогу вышло стадо баранов. Автомобиль, дернувшись, заглох и остановился, покатившись назад. Александр Павлович нажал до отказа на педаль тормоза, но автомобиль продолжал катиться назад, набирая скорость. Водитель дернул ручник и резко вывернул влево. Автомобиль, качнувшись вправо, все же устоял и остановился поперек дороги. Александр Павлович, выскочив из машины, заглянул под днище и сразу понял: тормозной шланг лопнул.
Стали спускаться, двигатель ревел как раненый зверь, машину трясло, она неслась вниз с ускорением. Уже в конце спуска как-то мягко покатилась по накатанной колее.
– Все, владыко, кажется, приехали, – печально сказал Александр Павлович.
Архиереи прогуливались около машины, пока Александр Павлович, лежа под ней, что-то подкручивал. Наконец он вылез из-под машины и с сокрушением сказал:
– Ну так и есть, как я предполагал, рассыпался диск сцепления, сами мы, владыко, ехать не сможем, только на буксире. Если вы благословите, то я схожу в ближайшую деревню и приведу подмогу.
Архиепископ растерянно развел руками, а митрополит расхохотался:
– Ну, как там Александр Сергеевич Пушкин говаривал: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»? Взял бы себе новую «ниву» и сейчас бы беды не знал, а хвастал: военная, ничего не боится. Да ее потому военные и списали, что она ничего не боится, а на ней-то страшно уже ездить.
Перестав смеяться, спросил Александра Павловича:
– Где тут ближайшая деревня?
– По дороге в ту сторону, километра три-четыре, Благодатовка будет, я быстро схожу.
– Нет, брат, ты оставайся здесь, а мы с твоим архиереем тряхнем стариной, прогуляемся, погода хорошая, а прогулка на пользу пойдет, а то весь мир только из окна персонального автомобиля видим, так и ходить разучимся.
Владыка Палладий как-то вяло согласился.
– Ну, раз желаешь, пойдем.
И два архиерея, надев подрясники и подпоясав их поясками, не торопясь зашагали в указанном направлении. С одной стороны дороги колосилась пшеница, а на другой, холмистой, росли трава да полевые цветы. Давно перевалило за полдень, солнце не сильно припекало, легкий ветерок обдувал путников, а тихий шелест травы и стрекотание кузнечиков услаждали слух. Некоторое время шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Потом вдруг митрополит рассмеялся:
– Ты знаешь, я вспомнил, как студентами я, ты и Колька Терентьев угнали ректорский «ЗИМ» покататься, а он в дороге сломался, вот уж бледный у нас был вид! Все, думаю, вещи домой собирать надо, выгонят как пить дать.
– Так и выгнали бы, если б не Николай, он же всю вину на себя взял.
– Это, конечно, благородно, но я его не просил об этом, он сам захотел. Кстати, где он сейчас, ты ничего о нем не знаешь?
– Как же не знаю?! Он в моей епархии служит, и по стечению обстоятельств мы сейчас прямо к нему шагаем, в деревню Благодатовку.
Митрополит резко остановился:
– Да не может быть!
– Почему же не может, если так и есть.
– Да-а, неисповедимы пути Господни, ну, значит, так Богу угодно. – И, как-то помрачнев, митрополит решительно зашагал дальше.
– Что с тобой, ты вроде как не рад предстоящей встрече с другом? Мы же, как три мушкетера, были неразлучными друзьями в семинарии.
– Были, так вот судьба разлучила, – печально сказал митрополит.
– Ну что ж, а теперь радуйся, что опять соединяет.
Митрополит ничего не ответил, лишь как-то засопел и ускорил шаг, так что Палладий, едва поспевая за ним, взмолился:
– Куда ты так припустил? Мы не студенты, давно за шестой десяток перевалило, я так задохнусь.
Митрополит замедлил шаг. Вдруг остановившись, он схватился за левый бок, повернул к Палладию побледневшее лицо, произнес почти шепотом:
– Ваня, мне чего-то нехорошо, и голова кружится.
Палладия давно уже никто не называл его мирским именем и, услышав его, он вдруг увидел не грозного митрополита, постоянного члена Синода, а своего близкого и теперь такого родного друга – Мишку Короткова. Слезы покатились из его глаз и, подхватывая падающего митрополита, он воскликнул:
– Миша, друг, что с тобой, милый, я сейчас.
Ухватив под мышки обессиленное тело митрополита, он поволок его к стоящему у дороги стогу свежескошенного сена.
Привалив митрополита к стогу, он, упав с ним рядом, стал лихорадочно шарить в глубоких карманах подрясника. Наконец достал металлическую колбочку.
– Вот, Миша, валидол, я его всегда с собой ношу, на, положи под язык.
Митрополит молча лежал на сене, устремив взгляд, затуманенный слезой, в бездонное синее небо, по которому бежали редкие пушистые белые облачка. Он вдруг вспомнил, как в далеком детстве любил лежать на траве и наблюдать движение облаков, представляя, что на этих облаках живут ангелы и святые. Как много прошло с тех пор лет! И он поймал себя на мысли, что ни разу с того времени не смотрел вот так на небо, как-то было не до того. А теперь он понял: надо было чаще смотреть на небо. Вся жизнь в какой-то постоянной суете. Вот она прошла, эта жизнь, а он и не заметил.
– Ваня, ты заметил, как жизнь прошла?
– О чем ты говоришь, почему прошла, что за пессимизм, ты всегда оптимистом был.
– Да я не о том, Ваня.
– А о чем? Ну как, тебе получше?
Палладий не сводил тревожного взгляда с лица своего друга, на щеке которого застыла слеза.
– Я всегда боялся умереть без покаяния, – сказал митрополит, – хорошо, что ты здесь, прими мою исповедь и разреши меня от греха моего.
– У меня епитрахили с собой нет, – растерялся Палладий.
– Эх, Ваня, на старости лет ты совсем в детство впал, дружище. Для чего же тебе дана благодать такого высокого сана, или забыл уроки по литургике профессора Георгиевского? Да любую веревку или полотенце благослови, на шею надень – вот тебе и епитрахиль.
– Да где же я веревку возьму, – оправдывался архиепископ.
Митрополит стащил поясок со своего подрясника.
– Вот тебе епитрахиль, извини, что омофора нет, – не удержался, чтобы не съязвить, он. Видя растерянность друга, закричал: – Господи, тебе еще святую воду принести? Так я его своими слезами окроплю, – и, утерев пояском глаза, накинул его на шею Палладия.
Архиепископ стал произносить молитвы, а митрополит повторял их вслед за ним, глядя в небо и часто осеняя себя широким крестным знамением.
Так, глядя в небо, он и заговорил, как будто сам для себя:
– Кроме многочисленных моих грехов, в которых я исповедуюсь регулярно перед своим духовником, есть один грех, который меня тяготит уже много лет. Одним словом можно его назвать: малодушие и предательство друга. Когда рукоположили меня во епископы, приехал в Москву Николай Терентьев. Приехал за помощью и поддержкой. Его тогда уполномоченный регистрации лишил, и он приехал ко мне, чтобы я посодействовал ему устроиться на приходское служение. Я увидел его во время всенощной в патриаршем соборе. Он подошел ко мне под елеопомазание в старом плаще, в сапогах, весь мокрый от дождя, и вид его был какой-то жалкий. Я его даже сразу не узнал. А как узнал, обрадовался, говорю: «Николай, ты ли это, каким ветром?» Он отвечает: «Надо, владыко, встретиться, поговорить. Я сейчас без места, может, чем поможешь?» Я говорю: «Конечно, какой разговор между друзьями?! Сегодня, – говорю, – не могу – ужин в нидерландском посольстве, – а завтра приходи к четырнадцати часам в ОВЦС». На следующий день жду его у себя в кабинете, заходит ко мне архимандрит Фотий и говорит: «Там, владыко, вас дожидается священник Николай Терентьев. Так вот, я не рекомендую его вам принимать». – «Почему это?» – удивился я. А Фотий говорит: «Я навел о нем справки через Совет по делам религии, его уволили за антисоветскую деятельность». – «Какую антисоветскую деятельность?» – совсем опешил я. «Он занимался с молодежью, вел, так сказать, подпольный кружок по изучению Священного Писания». – «Не понимаю, – говорю я, – Священное Писание – это что – антисоветская литература?» – «Да все вы понимаете, владыко, я же вам блага желаю. Вас собираются командировать в Америку служить, а это вам может сильно подпортить, но поступайте как хотите». Я, конечно, подумал, все взвесил и не стал принимать Николая. Ему сказали, что я уехал по вызову патриарха. Он неглупый, все понял и больше ко мне не приходил. Вот такой мой тяжкий грех. – И, немного помолчав, добавил: – А ведь тем, что я митрополит, я ему, Николаю, обязан.