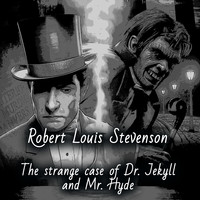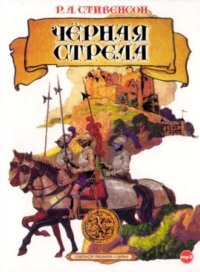полная версия
полная версияПутешествие внутрь страны
Когда мы переоделись и выпили по стакану эля за процветание клуба, один из его членов проводил нас в гостиницу. Он не захотел пообедать с нами, но не отказался выпить стакан вина. Энтузиазм – вещь утомительная. Битых три часа этот прекрасный молодой человек сидел с нами и распространялся о лодках и гонках. Перед уходом он велел принести нам свечи для спален.
Мы пытались иногда переменить предмет разговора, но отвлечение действовало только на одну минуту. Член клуба неуверенно отвечал на вопрос, потом его снова увлекала, как волна прилива, прежняя тема. Я говорю, что он возвращался к своей теме, но мне кажется, что не он управлял ею, а она подчиняла его себе. Аретуза, считающий всякие гонки измышлением дьявола, находился в самом жалком положении. Ради чести Англии он не решался признаться в своем невежестве и говорил об английских клубах и английских гребцах, в первый раз слыша о них. Он несколько раз чуть было не попался, особенно когда дело зашло о подвижных сидениях «Сигаретки». В те времена, когда кровь кипела в нем, он участвовал в гребных гонках, но теперь давно отказался от заблуждений безумной молодости. Теперь ему было еще хуже, так как спортсмен-бельгиец предложил ему завтра взять одно из восьми весел в их восьмивесельной гичке, чтобы сравнить английскую манеру грести с бельгийской. Я видел, что, когда спортсмен заговорил об этом, пот выступил на теле моего друга. Другое предложение произвело на нас обоих такое же действие. Оказалось, что европейским чемпионом гребли на байдарках (как и многими другими чемпионами) был один из членов клуба «Royal Nautique». Если бы мы только подождали до воскресенья, этот адский гребец снизошел бы до того, что согласился бы проводить нас до следущей нашей остановки. Но ни я, ни мой друг не имели нималейшего желания состязаться в солнечных гонках с Аполлоном.
Когда молодой человек ушел, мы велели потушить свечи в спальне и заказали себе грог. Над нашими головами прокатились громадные волны. Члены клуба «Royal Nautique» были поразительно симпатичны, ноони показались нам слишком юными и преданными своему гребному спорту. Мы заметили, что мы стары и циничны, мы любили покой и приятное блуждание мысли с предмета на другой, вместе с тем нам не хотелось опозорить родную страну, сделав неправильный удар веслом или жалко следуя за кормой байдарки европейского чемпиона. Словом, мы решили обратиться в бегство. Казалось, мы действовали неблагодарным образом, но мы постарались излить все наши чувства в оставленной нами записке. И действительно, раздумывать было некогда, нам казалось, что мы уже чувствуем горячее дыхание чемпиона, догонявшего нас.
Глава IV
Мобеж
Частью боясь наших милых друзей – членов клуба «Royal Nautique», частью зная, что между Брюсселем и Шарлеруа не меньше пятидесяти пяти шлюзов, мы решили переехать через границу в поезде, так как переправились бы через все эти шлюзы не скорее, нежели идя до Шарлеруа пешком с байдарками на плечах. Воображаю, как поразили бы мы в последнем случаеприбрежные деревни и как хохотали бы встречные ребятишки.
Переезд через границу, даже в поезде, для Аретузы дело трудное, он, Бог весть почему, подозрительная личность для официальных глаз. Где бы он ни путешествовал, кругом него собираются чиновники. Подписываются важные акты, чужестранные поверенные по делам, посланники и консулы рассеяны повсюду от Китая до Перу, и союзный флаг развевается под всеми небесами вселенной. Благодаря таким охранителям, священники, школьные учительницы, господа в серых твидовых костюмах, целые толпы английских туристов с Мюрреем в руках наполняют вагоны железных дорог континента, в одна только тонкая фигура Аретузы запутывается в сетях, тогда как остальные крупные рыбы весело продолжают свой путь. Если он путешествует без паспорта, его бросают (выражаюсь не фигурально) в шумную тюрьму; если его бумаги в порядке, правда, ему предоставляется свобода, но его предварительно оскорбляют недоверием. Он природный британец, однако ему еще никогда не удавалось убедить в своей национальности хотя бы одного чиновника. Он льстит себе мыслью, что он честен, однако его очень редко принимают за кого-нибудь получше шпиона. Нет ни одного нелепого и неблаговидного средства к жизни, которое не приписывалось бы ему недоверчивыми чиновниками или народом.
Я не могу понять причину этого. Я, как все другие, бывал в церкви и сидел за столом хороших людей, но на мне не осталось отпечатка от этого. Я кажусь всем официальным очкам таким же чуждым, как дикий индеец. Им представляется, что я мог приехать из любой части земного шара, кроме той, из которой я действительно явился. Мои предки напрасно трудились, и славная конституция не в силах охранять меня во время моих скитаний по чужим землям. Поверьте, великая вещь – воплощать собой хороший нормальный тип того народа, к которому вы принадлежите.
По дороге в Мобеж ни у кого не спросили бумаг, кроме меня, и хотя я отчаянно цеплялся за мои права, но мне пришлось выбирать между унижением и высадкой из поезда. Мне было неприятно уступить, но я желал быть в Мобеже.
Мобеж – укрепленный город с очень хорошей гостиницей «Большой олень». Казалось, город был главным образом населен солдатами и купцами, по крайней мере, мы видели только эти два рода людей да слуг гостиницы. Мы остались некоторое время в Мобеже, так как байдарки не спешили за нами, и, наконец, они безнадежно застряли на таможне, нам даже пришлось вернуться и освободить их. Делать и смотреть в городе было нечего. Нас хорошо кормили, это было важно, нодругих удовольствий не было.
Сигаретку чуть не арестовали, обвинив его в желании начертить укрепления, хотя он был безнадежно неспособен исполнить эту задачу. Кроме того, какя предполагаю, каждая воинственная нация уже имеетт планы всех крепостей других стран, и подобные предосторожности похожи на старательное запирание дверей хлева, когда стадо уже ушло. Я думаю, что это делается с целью поддерживать в народе хорошее настроение. Очень хорошо убедить людей в том, что они хранят тайну. Это заставляет их придавать себе большее значение. Даже франкмасоны, о которых говорилось до пресыщения, сохраняют известного рода гордость, и каждый бакалейщик-масон, каким бы честным, безвредными пустоголовым он ни сознавал себя, возвращается домой после одного из их сборищ, чувствуя себя человеком очень значительным.
Удивительно, как двое людей (если их двое) могут хорошо жить в том городе, где у них нет знакомых. Мне кажется, созерцание жизни, в которой человек не принимает участия, парализует его личные желания. Он довольствуется ролью зрителя. Булочник стоит на порогей лавки; полковник, украшенный тремя медалями, идет вечером в кафе; войска барабанят и трубят и, как храбрые львы, взбираются на укрепления. Не хватит слов, чтобы описать, как спокойно смотрит на все это чуждый человек.
Там, где вы пустили некоторые корни, вы волей-неволей выходите из равнодушия. Вы участвуете в жизни, ваши друзья бьются в армии. Но в чужом городе, недостаточно маленьком, чтобы слишком скоро ознакомиться с ним, но и не настолько большом, чтобы он привлекал много путешественников, вы стоите так далеко отъ всех волнений, что положительно не видите, что могли бы подойти ближе к жизни; вы так мало испытываете участия к людям, что забываете, что вы человек. Может быть, очень скоро вы перестали бы и быть человеком. Гимнософисты идут в лес, там их окружает природа, полная поэзии, они на каждом шагу встречают романы. Было бы целесообразнее, если бы они селились в скучных провинциальных городах, где видели бы достаточно образчиков человечества, чтобы это отнимало у них желание видеть большее количество людей, да кроме того, смотрели бы лишь на внешнюю сторону жизни. Внешность существования так же мертва для нас, как пустые формальности, и говорит нашему зрению и слуху мертвым языком, и не имеет большего значения, нежели брань или приветствие. Мы так привыкли видеть, как в воскресные дни в церковь идут супружеские пары, что совершенно забываем, что они изображают, и романистам приходится оправдывать незаконную любовь, когда они желают показать нам, как хорошо, если мужчина и женщина живут друг для друга.
Однако в Мобеже нашелся человек, показавший мне не одну свою оболочку. Я говорю о кучере омнибуса гостиницы, это был человек с искрой чего-то человеческого в душе. Он слышал о нашем маленьком путешествии и пришел выразить мне свое завистливое сочувствие. Как ему хочется отправиться путешествовать, сказал он мне. Как ему хочется посмотреть свет раньше, чем он уйдет в могилу…
– Я еду на станцию, – сказал он. – Прекрасно, потом я еду обратно. И так каждый день целую неделю. Боже мой, неужели это жизнь?
Я не мог сказать, что нахожу это жизнью для него. Кучер просил меня сообщить, где я побывал и куда надеялся отправиться. Слушая меня, бедный малый вздохнул. Разве он не мог бы сделаться храбрым африканским путешественником, или отправиться в Индию за Дреком? Но теперь неблагоприятное время для людей с бродячими наклонностями. Тот, кто может прочнее усидеть на трехногом стуле, получает богатство и славу.
Не знаю, ездит ли до сих пор мой друг с омнибусом «Большого оленя»? Вряд ли; когда мы были в Мобеже, он, казалось, собирался возмутиться, и, быть может, наше появление дало ему последний хороший толчок. Ведь для него в тысячу раз лучше сделаться бродягой, чинить горшки и сковородки, сидя у дороги, спать под деревьями и каждый день видеть восход и закат на новом горизонте, нежели ездить с омнибусом. Мне кажется, будто я слышу, как вы говорите, что положение кучера омнибуса гостиницы – почтенное. Прекрасно. Но разве имеют право люди, не дорожащие подобным почетом, отнимать у других доступ к нему? Предположим, мне не нравится какое-нибудь кушанье, а вы говорите, что все остальные, сидящие за столом, очень любят его. Что я должен сделать? Полагаю, не доедать этого кушанья до конца. Почтенное положение вещь хорошая, не она не может пересиливать всех остальных соображений! Я не говорю, что это дело вкуса, отнюдь нет, я только хочу заметить, что если положение не нравится человеку, кажется ему ненужным, стеснительным и бесполезным, то будь оно так же почтенно, как церковь Англии, чем скорее он покинет его, тем для него лучше.
Глава V
По Самбре, обращенной в канал, – в Карт
В три часа пополудни все служащие в «Олене» проводили нас до воды. Кучер омнибуса смотрел на нас широко раскрытыми дикими глазами. Бедная птица в клетке! Разве я сам не помню время, когда я ходил на станцию и смотрел, как один поезд за другим уносил свободных людей в темноту ночи, когда я читал на расписаниях названия отдаленных мест, чувствуя невыразимое желание уехать?
Не успели мы миновать укрепления, как начался дождь. Дул противный ветер, налетавший яростными порывами, вид окрестностей не был милосерднее неба. Мы плыли по местности совершенно обнаженной, скудно поросшей кустарниками и украшенной только многочисленными фабричными трубами. Мы вышли на унавоженный луг, между подстриженными деревьями, и хотели, воспользовавшись минутами светлой погоды, выкурить по трубке. Ветер дул так сильно, что нам оставалось только курить. Кроме нескольких грязных фабрик ничто не привлекало нашего внимания. Невдалеке от нас стояла группа детей под предводительством высокой девочки, они все время смотрели на двух незнакомцев и, право, не знаю, что думали о нас.
В Омоне мы встретили шлюзы, почти непроходимые, место для высадки было очень круто и высоко, спуск же находился на порядочно далеком расстоянии. С дюжину суровых рабочих протянули нам руки и помогли вытащить байдарки. Они отказались от всякого вознаграждения и, что еще лучше, отказались без всякой обиды.
– Таков у нас обычай, – сказали они.
Это очень приличная манера. В Шотландии, где вам также помогают без платы, простолюдины отказываются от ваших денег с таким видом, точно вы хотели подкупить избирателей. Когда люди решаются поступать благородно, им следует считать, что чувство собственного достоинства присуще и всем остальным. Но внаших милейших саксонских странах, где мы трудимся семь десятков лет подряд и большей частью среди грязи, где ветер свистит в наших ушах от рождения до могилы, все хорошее и дурное, что мы делаем, мы делаем заносчиво, почти обидным образом, даже милостыню мы превращаем в акт войны против существующего зла.
После Омона вышло солнце и ветер спал. На веслах мы прошли за стальные заводы и очутились в очень красивой местности. Река вилась между низкими холмами так, что солнце то светило за нашими спинами, то стояло у нас над самыми головами, и вся река превращалась в пелену нестерпимого света. По обе стороны тянулись луга и фруктовые сады, воду окаймляла осока и водяные цветы. Тянулись очень высокие плетня, привязанные к стволам ряда вязов; поля, часто очень небольшие, казались серией клумб. Дали не было видно. Порой вершина холма, поросшая деревьями, выглядывала из-за ближайшей ограды, открывая кусок неба. На небе не стояло ни облачка. После дождя атмосфера дышала очаровательной чистотой. Река между шлюзами казалась блестящим зеркалом. Удары весел заставляли колебаться цветы, росшие у берегов.
По лугам бродил белый и черный скот с фантастической окраской. Один бык с белой головой на совершенно черном теле подошел напиться воды и стоял, насторожив уши, точно какой-то важный пастор в комедии. Через минуту я услышал громкий всплеск воды и, обернувшись, увидел, что мой пастор плыл к берегу; земля обвалилась под его ногами.
Кроме скота, из живых существ мы видели немного птиц и много рыбаков. Рыбаки сидели на окраинах лугов, некоторые из них держали по одной удочке, у других было чуть не по десяти. Казалось, они оцепенели от наслаждения, а когда мы заставляли их перекикуться с нами несколькими словами о погоде, их голоса звучали издалека спокойно и как бы мечтательно. Странная вещь: рыбаки разноречиво говорили о том, для какой рыбы забрасывали они свои удочки, но каждый из них считал, что в реке богатая добыча. В тех случаях, когда оказывалось, что не было и двух человек, поймавших двух рыб одной и той же породы, мы невольно начинали думать, что ни один из них не выудил ровно ничего. Впрочем, я надеюсь, что в этот прелестный день они были, наконец, вознаграждены, и что в каждой лоханке отправилась домой обильная серебристая добыча для ухи. Многие из моих друзей будут стыдить меня за это, но я предпочитаю всякого человека, будь он только рыбаком, прелестнейшей паре жабер во всех водах, созданных Богом. Я не нападаю на рыб, пока мне не подают их под соусом, но рыбак очень важная принадлежность речного пейзажа, а потому заслуживает внимания путешественника, странствующего в байдарке. Рыбак всегда скажет вам, где вы, если вы вежливо обратитесь к нему; кроме того, его спокойная фигура еще подчеркивает уединение и тишину и говорит о блестящих жителях снующих под лодкой.
Самбра так вьется между холмами, что мы подошли к шлюзам Карта только в половине седьмого. На бечевой тропинке стояло несколько детей; Сигаретка начал болтать с ними, так как они побежали за нами. Напрасно предупреждал я его, напрасно говорил я ему по-английски, что мальчишки самые опасные создания на свете, что раз завяжешь с ними отношения, то кончишь под градом камней. Что касается меня, я на все обращение ко мне только кротко улыбался и покачивал головой с видом человека, плохо знающего французский язык. Еще дома у меня было такое столкновение с мальчишками, что я охотнее встретился бы со стаей диких зверей, чем с толпой здоровых мальчуганов.
Но я оказался несправедлив к мирным юным прибрежным жителям. Когда Сигаретка отправился на разведку, я вышел на берег покурить и присмотреть за байдарками и в ту же минуту сделался центром любезного внимания. В это время к детям подошла молодая женщина с миленьким мальчиком, лишившимся одной руки. Это сделало меня смелее. Когда я сказал слова два по-французски, одна маленькая девочка качнула головкой и заметила с очень важным комическим видом:
– А вы видите, теперь он довольно хорошо понимает, он только притворялся.
И маленькая группа рассмеялась очень добродушно.
Услыхав, что мы приехали из Англии, дети были поражены, а маленькая девочка сообщила, что Англия остров, очень далеко отсюда, bien loin d'ici.
– Да, можно сказать, что это далеко, – заметил однорукий мальчик.
Никогда еще в жизни я не испытывал такой тоски по родине, как в эту минуту; дети превращали в бесконечность пространство, которое отделяло меня от места моего рождения.
Ребятишки любовались нашими байдарками, и я подметил в них одну черту деликатности, о которой стоит упомянуть. Последние сотни ярдов дети оглушали нас просьбами покатать их, то же громко кричали они нам на следующее утро, когда мы двинулись в путь, но пока наши лодки стояли пустые, никто из них и не подумал надоедать нам. Это была деликатность. А может быть страх очутиться в такой нежной лодочке? Я ненавижу цинизм более, нежели дьявола (хотя, быть может, это одно и то же), между тем, он прекрасное тоническое средство; он холодный ушат и простыня для чувства и положительно необходим, когда человек страдает чрезмерной чувствительностью.
Осмотрев байдарки, дети обратились к моему костюму. Они не могли налюбоваться моим красным поясом, мой нож вселил в них страх.
– Вот как они делаются в Англии, – сказал однорукий мальчик (я рад, что он не знал, какие плохие ножи делаются теперь в Англии). – Их покупают люди, которые уходят в море, – прибавил он, – чтобы защищаться против большой рыбы.
Я чувствовал, что с каждым словом делался все более и более романтическим существом в глазах детей, и, мне кажется, не ошибался. Даже моя трубка из обыкновенной французской глины превратилась для них в редкость, как вещь, привезенная издалека. Если мое оперение само по себе было недостаточно красиво, оно все же было заморским. Одно обстоятельство поразило их так, что они потеряли всякое чувство вежливости, а именно грязный вид моих холщовых туфель. Мне кажется, дети поняли, что грязь, во всяком случае, была продуктом их родной страны. Маленькая девочка (душа всей компании) презрительно скинула свои маленькие сабо, и я хотел бы, чтобы вы видели, как весело, как грациозно сделала она это!
Молочный кувшин молодой женщины, большая амфора из кованой меди, стоял невдалеке. Я обрадовался возможности отвлечь внимание публики от себя и ответить похвалами на все те комплименты, которыми меня осыпали. Я стал искренно восхищаться формой и цветом кувшина, говоря, что он красив как золотой. Никто не удивился. Очевидно, вся округа славилась подобными вещами. Дети много говорили о дороговизне амфор; которые иногда продавались по тридцати франков за штуку; ребятишки рассказали мне, как их возят на ослах, вешая по обе стороны седла, причем они составляют сами по себе украшение. Мои новые друзья рассказали мне также, что подобные кувшины можно найти во всей округе и что на более крупных фермах их бывает очень много и очень большой величины.
Глава VI
Пон на Самбре. Мы торговцы-разносчики
Сигаретка вернулся с хорошими вестями. Мы могли пойти в Пон, до которой было не больше десяти минут ходьбы. Мы втащили лодки в амбар и спросили, не проводит ли нас кто-нибудь из детей до Пона. Кружок мгновенно расширился, и все наши обещания награды были встречены полным, вселяющим отчаяние молчанием. Очевидно, дети считали нас двумя страшными Синими Бородами. Они могли говорить с нами в общественных местах и не боялись, пока превосходили нас численностью; другое дело было идти с легендарными страшными и странными людьми, которые, точно упав с облаков, спустились в их деревню в этот спокойный день; они дрожали при мысли очутиться наедине с далекими странниками в поясах и с ножами. Хозяин амбара пришел нам на помощь; он велел одному маленькому мальчику проводить нас, пригрозив ему, что прибьет его за ослушание. Не будь этого благодетеля, нам, вероятно, пришлось бы отыскивать дорогу самим. Как бы то ни было, мальчик больше побоялся хозяина амбара, нежели иностранцев; может быть, он уже по опыту знал, каково иметь дело с ним? Но мне кажется, что сердечко мальчишки сильно билось. Он бежал на порядочном расстоянии впереди нас, все оглядывался и посматривал на нас широко раскрытыми глазами. Вероятно, дети иного мира так же провожали Юпитера или кого-либо из его олимпийских товарищей, когда те спускались на землю искать приключений.
Грязная дорога увела нас от местечка Карт с его церковью и задорной ветряной мельницей. С полей шли крестьяне. Бодрая маленькая старушка обогнала нас. Она сидела на осле по-мужски между двумя блестящими молочными кувшинами и то и дело подгоняла ослика, слегка ударяя каблуками по его бокам; она бросала шутливые замечания насчет прохожих, но никто из усталых встречных не отвечал ей. Вскоре наш проводник свернул с дороги на тропинку. Солнце село; запад, бывший перед нами, казался гладким озером ровного золота. Тропинка некоторое время бежала по открытому месту, а затем вошла под свод, походивший на бесконечно продолженную беседку. По обе стороны были тенистые фруктовые сады, домики стояли под листьями, и их дым поднимался в тихом воздухе. Там и здесь в просветах проглядывало большое, холодное лицо западного неба.
Я никогда не видал Сигаретку в таком идиллическом настроении духа. Он положительно впадал в лирический тон, расхваливая сельские картины. Сам я восхищался немногим менее его. Мягкий вечерний воздух, светотени и тишина создавали какое-то гармоническое добавление к нашей прогулке. Мы решили на будущее время избегать городов и всегда ночевать в деревнях.
Наконец тропинка прошла между двумя домами и вывела нас на широкую, грязную, большую дорогу, окаймленную по обеим сторонам, насколько мог видеть глаз, необозримой, большой деревней. Дома стояли несколько поодаль от шоссе, оставляя широкие полосы земли по обе стороны улицы; на этих краях дороги были сложены поленницы дров, телеги, тачки, кучи щебня, и росла мелкая, еле видная трава. Слева стояла тонкая башня. Чем она была в прошлые века, я не знаю, вероятно, убежищем во время войны, теперь же близ ее верхушки виднелся неудобочитаемый циферблат, а внизу ящик для писем.
Гостиница, на которую нам указали в Карте, была полна; вернее, мы не понравились ее хозяйке. Нужно сказать, что мы с нашими длинными гуттаперчевыми дорожными мешками представляли собой очень сомнительные типы цивилизованных людей. Сигаретке казалось, что мы походим на лоскутников и ветошников.
– Скажите, господа, вы разносчики-купцы? (Ces messieurs sont des marchands)? – спросила нас содержательница гостиницы и, не ожидая ответа, который она нашла излишним в таком ясном случае, посоветовала нам отправиться к мяснику; он, по ее словам, жил близко от башни и отдавал комнаты путешественникам.
Мы пошли к мяснику, но он собирался переезжать, и все постели унесли, иначе говоря, ему не понравились наши лица. И в заключение мы услышали: «Скажите, господа, вы разносчики-купцы?».
Стало серьезно темнеть. Мы уже не могли различать лиц людей, встречавшихся нам и невнятно говоривших «здравствуйте». По-видимому, хозяева домов деревни Пон очень берегли масло, потому что мы не заметили ни одного освещенного окна на всей длинной улице. Я думаю, Пон самая длинная деревня на свете, впрочем, ведь в нашем положении каждый шаг казался нам втрое длиннее. Мы очень упали духом, подойдя к последней гостинице. Взглянув на темную дверь, мы застенчиво спросили, не можем ли мы переночевать в ней. Женский голос, очень ласковый, пригласил нас войти. Мы бросили мешки и сели.
В комнате стояла полная темнота, виднелся только красный свет в щелках и поддувалах печки. Наконец хозяйка зажгла лампу, чтобы посмотреть на своих новых постояльцев. Полагаю, темнота и спасла нас от нового изгнания, так как не могу сказать, чтобы она с удовольствием осматривала наши фигуры. Мы были в большой, пустой комнате, украшенной двумя аллегорическими литографиями, изображавшими «Музыку» и «Живопись» и копии с «Закона против пьянства». С одной стороны зала виднелся прилавок с полдюжиной бутылок. Двое крестьян, по-видимому, до смерти усталых, сидели в ожидании ужина. Некрасивая служанка возилась с заспанным ребенком лет двух. Хозяйка растолкала котелки на плите и стала жарить нам бифштексы.
– Скажите, господа, вы разносчики-купцы? – спросила она резко, и этим вопросом ограничился весь ее разговор с нами.
Мы сами начинали уже думать, не купцы ли мы? Никогда в жизни не встречал я людей с таким ограниченным кругом идей, как содержатели гостиницы в Поне. Понятия о хороших манерах и способе держаться в деревнях распространены не более банковых билетов. Стоит вам выйти из вашей колеи, как все ваши манеры делаются незаметными для окружающих. Жители Пона не могли видеть разницы между нами и разносчиками. Пока жарилось мясо, мы смогли убедиться, что все смотрели на нас, точно на совершенно равных себе, и наша утонченная вежливость и усилия завязать разговор казались им вполне согласным с характером разносчиков. Следует сказать к чести этой профессии во Франции, что мы не могли побить даже таких судей нашим оружием.