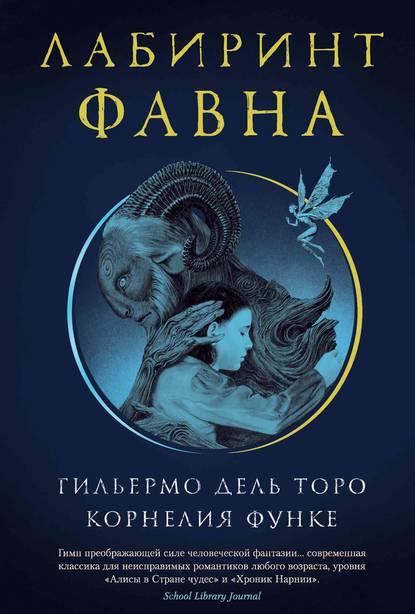Полная версия
Изящное искусство смерти
Беккер помотал головой, чтобы прогнать ужасные воспоминания, и постарался убедить себя, что все это ему только показалось, что наделе он не видел в тумане огромной тени животного. Констебль дышал через раз, чтобы в нос попадало как можно меньше зловония разлагающихся в канаве экскрементов, и от нехватки воздуха немного кружилась голова. Правду ли сказал инспектор, что заболеть холерой скорее можно оттого, что пьешь плохую воду, а не потому, что вдыхаешь всякую гадость? Смрад стоял такой, что Беккер с трудом сдерживал рвотные позывы.
Свинья засопела еще ближе.
Беккеру отчаянно хотелось перебраться через стену и оказаться в тихом, безопасном дворике. Но он хорошо помнил об обнаруженных в магазине пяти трупах и своем обещании стеречь оставленные убийцей следы. Он вовсе не собирался всю жизнь служить констеблем. Беккеру было всего двадцать пять лет, но он уже перепробовал много тяжелых и вредных для здоровья профессий, работал по шестьдесят часов в неделю на кирпичном заводе, пока не сообразил, что высокий рост и могучее телосложение помогут ему устроиться в полицию. Вот уже пять лет, как он патрулировал лондонские улицы, в основном в неблагополучных районах, и при этом проводил на службе больше времени, чем когда пахал на заводе. Каждую ночь он отмахивал по двадцать миль, а выходной имел всего один в две недели.
Тем не менее, хотя Беккер и испытывал отвращение от того, с чем ему приходилось почти ежедневно сталкиваться, он гордился, что может на своей работе применять не только грубую физическую силу, но и интеллект. Он мог вовремя остановить проявления жестокости и насилия. Хотя тот же инспектор Райан, конечно, делал это с гораздо большим успехом. Да и жалованье детектива составляет восемьдесят фунтов в год, а констебль зарабатывает только пятьдесят пять. И если он может рассчитывать на какие-то дивиденды, стоя здесь и охраняя отпечатки от этой чертовой свиньи, тогда ему нужно собраться с духом и терпеливо дожидаться возвращения инспектора.
Решимость Беккера едва не улетучилась, когда он услышал неподалеку в тумане хрюканье еще одной свиньи.
Эта тварь расположилась с другой стороны от констебля. Окруженный животными, он продолжал периодически стучать дубинкой по стене и кричать:
– Убирайтесь отсюда, вы, сучьи дети!
Внезапно Беккер услышал, как первая свинья хрюкнула и зашлепала по грязи. Прикинув расстояние, констебль размахнулся и нанес сильнейший удар дубинкой. Судя по звуку, он не промахнулся. Тут же свинья огласила окрестности яростным визгом – он напомнил Беккеру детство, когда отец перерезал животным глотки, перед тем как везти на ярмарку мясо.
Широко расставив ноги, Беккер встал над следами, которые поклялся охранять, и ударил еще раз и еще, и каждый раз дубинка соприкасалась с плотью. Свинья завизжала и толкнула человека головой в бедро. Силы в ней оказалось столько, что констебль едва не плюхнулся в канаву с нечистотами.
Он должен сохранить следы в целости!
Пригнувшись, чтобы удержать равновесие, Беккер, как только свинья оказалась в зоне досягаемости, ударил снова. Дубинка врезалась в плоть, и свинья огласила окрестности воплем. Беккер быстро отступил и занял прежнюю позицию, стараясь не повредить отпечатки.
Теперь обе зверюги стояли рядом, так что констеблю не приходилось больше распылять внимание. Но вот если они решат наброситься одновременно, нет никакой надежды остановить тварей. Они собьют его с ног в грязь и станут рвать на куски.
– Хотите побороться? Давайте!
Беккер шагнул вперед – следы теперь находились за его широкой спиной. Он со страшной силой ударил дубинкой наугад и сам был удивлен, когда попал. В раздавшемся громком визге смешались одновременно боль и ярость. При этом ярость перевесила боль. Первая свинья снова бросилась в атаку. Или это была вторая? Беккер не мог утверждать наверняка, да на размышления не было и времени – он замахнулся, ударил, но не попал по мерзкой твари, и тут же в рукав куртки вцепились зубы. Свинья потащила его к себе.
Беккер дернулся в противоположную сторону, рукав оторвался, а сам он рухнул на землю. Следы! Нельзя повредить следы! Ужом он скользнул в сторону, подальше от них, и со стоном привалился спиной к стене, но поскользнулся в грязи и упал на бок. Окаймленная сталью каска слетела и покатилась прочь. Свиньи бросились в атаку. Беккер принялся отбиваться обеими ногами. Он бил по зубам, по тупым рылам. От страха ему почудилось, будто он едет на недавно появившемся хитроумном приспособлении под названием «велосипед» – констеблю довелось его видеть. Он так же яростно молотил ногами, вот только лежал на боку, а толстые подошвы ботинок не нажимали на педали, а чувствовали под собой упругую плоть. Беккер закричал и, корчась, словно червяк, у стены, стал наносить еще более яростные удары.
Нет! Он находится слишком близко от следов убийцы!
Инспектор Райан стоял и исследовал найденную среди мусора складную бритву, когда полицейский фонарь начал гаснуть. Он отвернул крышку, чтобы усилить приток воздуха для лучшего горения, но хитрость не помогла. Фонарь с каждой секундой светил все слабее. Инспектор потряс его, не услышал плеска керосина и понял, что совсем скоро останется в полной темноте.
Впрочем, света еще вполне хватало, когда он открыл бритву и увидел, что лезвие перепачкано в крови. Он закрыл орудие преступления и сунул в карман пальто.
Наконец фонарь погас. Разглядеть хоть что-то можно было только благодаря светившей в конце переулка газовой лампе. Справа раздавался шум толпы, все еще торчавшей перед магазином. Райан вышел из переулка и зашагал, ежесекундно оступаясь на скользких булыжниках, перебираясь от одной тусклой лампы к другой, в ту сторону, откуда доносились голоса. Чем ближе он подходил, тем светлее становилось – к уличным фонарям добавлялись окна. Владельцы соседних лавочек, чьи жилища располагались сразу за магазинами, были разбужены царящей на улице суматохой и теперь спешили зажечь свет, чтобы лучше видеть происходящее.
Райан подошел к сгрудившимся на мостовой зевакам и попытался проскользнуть между ними к месту преступления.
– Эй, смотри, куда прешь! – рявкнули на него из толпы.
– Полиция. Мне необходимо пройти.
– По мне, так ты не похож на легавого.
– Я детектив, работаю в штатском.
– Ну конечно. А я лорд Палмерстон. Правда, Пит? Я хренов лорд Палмерстон[4].
– Да, господин Купидон, именно так.
– А этот парень, видать, считает себя королевой Викторией, раз так прет.
– Мне действительно необходимо пройти. Пожалуйста, подвиньтесь, чтобы я…
– Да пошел ты, приятель.
От «лорда Палмерстона» несло джином, и Райан решил попытать счастья в другом месте. Он поднял над головой фонарь, надеясь, что это придаст его действиям убедительности.
– Уступите дорогу. Мне нужно попасть в магазин.
– Эй, где ты украл полицейский фонарь?
– Я и есть полиция. Мне нужно пройти.
– Да, конечно. Где твой значок? Вали лучше отсюда.
Внезапно Райан почувствовал, как чья-то рука залезла в карман пальто. Случившийся поблизости карманник пытался его ограбить. Детектив ударил воришку фонарем по руке.
Несостоявшийся вор закричал:
– У него в кармане бритва!
– У кого? Где?
– Вот у него! У него бритва!
Райан попытался ускользнуть, но его уже схватили несколько пар рук, придавили к фонарному столбу и сильно встряхнули.
Кепка слетела с головы.
– Ба! Рыжий!
– Он ирландец! Мы нашли убийцу!
– Да послушайте меня! Я работаю вместе с полицейскими!
– Тогда что делает бритва у тебя в кармане? Кто-нибудь прежде видел его здесь?
– Никогда! Я бы запомнил эти рыжие волосы!
Ощущая себя будто голым, Райан попытался вырваться.
– Не, никуда ты не денешься!
Здоровенный кулак врезался в живот.
Райан согнулся пополам и, хватая ртом воздух, неожиданно нанес наудачу удар фонарем. Один из державших его мужчин заревел от боли, Райан толкнул его на других, кто-то закричал и упал. Райан мгновенно ринулся в образовавшуюся щель, продолжая размахивать фонарем.
– Не дайте убийце сбежать! – заорали ему вслед.
Преследуемый по пятам разъяренной толпой, Райан увидел переулок, из которого вышел несколько минут назад, и метнулся туда. Но вдали от единственного фонаря стояла такая густая тьма, что он не рискнул в нее соваться – там легко можно было на что-нибудь наткнуться, пораниться и лишиться надежды скрыться от преследователей. В тусклом свете фонаря Райан заметил рядом с местом, где обнаружил бритву, доску от ящика. Он быстро схватил ее и отступил в темноту. Толпа наконец достигла переулка, самый смелый сунулся в него и немедленно получил сильный удар доской по уху.
С воплем мужчина выскочил обратно на улицу.
– Что вы там застряли? – заорали из толпы. – Давайте за ним!
– Вот сам туда и иди! – крикнул в ответ ушибленный, потирая окровавленную голову.
– Что тут происходит? – раздался спокойный, уверенный голос.
– Констебль, мы обнаружили убийцу! Он в этом переулке! У него бритва!
– Отойдите назад!
Туман прорезал яркий луч света.
Через секунду его источник приблизился.
– Это полиция! Назовите себя!
Райан узнал голос. Констебль оказался одним из его соседей по общежитию.
– Привет, констебль Рейли.
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
– Как нарыв на левой ноге? Уже лучше?
– Нарыв на… Господи всемогущий, эти рыжие волосы. Да это же инспектор Райан!
– Врежьте ему! – заорали из толпы.
– Дайте мне дубинку! – попросил Райан.
Констебль молча повиновался.
– И достаньте трещотку.
Полицейский снял с ремня трещотку и откинул рукоятку. В свете фонаря металлическая лопасть выглядела весьма устрашающе.
В карманах мешковатого пальто Райана хранилась масса всяких полезных вещей. Сейчас он извлек из них четыре шерстяные ленточки.
– Это еще для чего? – удивился констебль.
– Чтобы мы не оглохли.
Райан скатал две ленты в рулончик и засунул в уши констеблю. Потом повторил ту же операцию с собственными ушами. Окружающие звуки сразу же стали намного тише.
– Интересное изобретение, – сообщил полицейский.
– Направьте луч фонаря вперед и как можно громче гремите трещоткой. Будем пробиваться назад к магазинчику. Готовы?
– С радостью.
– Ну, тогда давайте наведем порядок.
– Эй, вытащите оттуда этого ирландца! – проревел голос с улицы.
Констебль направил фонарь на толпу и крикнул:
– Дорогу!
Другой рукой он яростно раскручивал трещотку.
– Шевелитесь! – рявкнул Райан, выходя из переулка. В одной руке он держал дубинку, в другой – доску. – Очистите улицу!
Толпа отшатнулась.
– Расходись! – зычно крикнул констебль, изо всех сил крутя трещотку.
Стоявший у них на пути высоченный парень замешкался, получил удар дубинкой по руке, взвыл и ретировался в темноту.
Какой-то смельчак бросился на инспектора, но Райан врезал нападавшему под колено, и тот упал на землю.
Вдруг к одной трещотке присоединились еще несколько, и на улице воцарился настоящий пандемониум. На выручку товарищам мчались другие констебли. Они с ходу врезались в толпу, ослепляя бунтующих светом фонарей, а особо ретивых угощали ударами тяжелых трещоток.
Люди наконец бросились врассыпную.
– Продолжайте поиски! Продолжайте расспросы! – наставлял констеблей Райан. – Кто-нибудь! Одолжите мне фонарь!
Он вспомнил про Беккера, кинулся в магазин и через коридор выскочил на задний двор.
– Беккер!
Райан пробежал мимо туалета и подтянулся на руках на стену.
– Беккер, вы слышите меня?
Он посветил фонарем, пригляделся внимательнее и охнул.
Констебль лежал возле заполненной экскрементами канавы. Его форменная одежда была вся перепачкана кровью и грязью. Рядом валялись две огромные свиньи, также покрытые кровью, – похоже, дохлые.
– Беккер! – взмолился инспектор. – Скажите что-нибудь! Вы в порядке?
Констебль зажмурился от яркого света.
– Свиньям не удалось затоптать следы. Я сохранил их, как и обещал. Теперь вы можете сделать с них слепки.
Глава 3
Англичанин, употреблявший опиум
Лауданум имеет рубиновый цвет. Это настойка, состоящая на 90 процентов из спирта и на 10 – из опиума. На вкус она горькая. Честь изобретения лауданума принадлежит одному швейцарскому алхимику – в самом начале шестнадцатого века он обнаружил, что опиум гораздо лучше растворяется в спирте, чем в воде. Он также добавлял в настойку толченый жемчуг. В шестидесятые годы семнадцатого века английский врач доработал формулу, исключил из нее посторонние примеси вроде толченого жемчуга и выписывал лауданум в качестве лекарства против головных болей, болей в животе и других внутренних органах, а также как средство при нервных расстройствах. К описываемому периоду лауданум был настолько широко распространен как обезболивающее, что хотя бы одну бутылочку можно было обнаружить практически в каждом доме. Учитывая тот факт, что производными опиума являются морфин и героин, репутация лауданума как сильного болеутоляющего была вполне обоснованна. Производители лауданума, такие как «Бэрлиз седэтив солюшн», «Макманнз эликсир» и «Мазерс Бэйлис куитинг сирэп», рекламировали его как отличное средство при зубной боли, подагре, диарее, туберкулезе и раке – и это далеко не полный список. Женщины применяли лауданум, чтобы облегчить болезненные спазмы при менструации. Его давали детям, страдающим коликами.
В пятидесятые годы девятнадцатого века еще не существовало четкого определения наркотической зависимости. Хотя некоторые врачи обращали внимание, что длительный прием лауданума может вызвать зависимость от препарата, большинство простых людей рассматривали пристрастие к лаудануму как одну из привычек, порождаемых слабоволием, которую легко можно побороть с помощью характерных для Викторианской эпохи добродетелей – дисциплины и характера. Соответственно, распространение лауданума не регламентировалось никакими законами. Его без проблем и дешево можно было купить у любого ближайшего аптекаря. Но поскольку рецепта на нее не требовалось, настойку также легко было приобрести в бакалейной или мясной лавке, портновской мастерской, у уличных торговцев, владельцев таверн и даже сборщиков арендной платы. Рекомендуемая доза – и то только при определенных симптомах – составляла двадцать пять капель, или треть чайной ложки, с наставлением не применять лекарство в течение длительного времени. Однако многие люди эпохи королевы Виктории не обращали внимания на эти ограничения и становились полностью зависимыми от лауданума, хотя негласные законы викторианского общества не поощряли граждан признаваться в том, что они оказались слабы духом.
Невозможно точно сказать, сколько англичан того времени испытывали наркотическую зависимость. Но число их должно было быть значительным, если учесть, что миллионы употребляли лауданум ежедневно. Бледность многих дам из средних и высших слоев общества, частое отсутствие у них аппетита, периодические обмороки, склонность проводить много времени в одиночестве в темных покоях, бросающаяся в глаза вычурность забитых мебелью и увешанных от пола до потолка коврами гостиных, вечно закрытые тяжелые шторы на окнах – все это свидетельствовало об охватившей страну зависимости, хотя, согласно тем же неписаным законам викторианского общества, его члены не могли обсуждать эту тему.
Однако Томас Де Квинси не делал тайны из своей зависимости. В 20-е годы XIX века он стал самым знаменитым писателем в Англии благодаря тому, что имел смелость подробно описать пагубную привычку в приобретшем скандальную славу национальном бестселлере «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум». В этой книге Де Квинси описывает, как впервые попробовал наркотик. Это случилось в 1804 году, когда он купил в аптеке немного лауданума, чтобы облегчить постоянные «боли в голове и лице». В то время он был девятнадцатилетним студентом Оксфорда, и преследовавшие его боли, очевидно, являлись следствием нервного напряжения – он, молодой человек, едва сводивший концы с концами, вынужден был днем и ночью находиться рядом со смотревшими на него свысока обеспеченными студентами. На протяжении девяти лет он непрерывно увеличивал частоту приема и дозы и к 1813 году мог сдерживать непреодолимое влечение к лаудануму лишь на краткие промежутки времени и ценой огромных усилий. В итоге его дневная норма выросла с трети чайной ложки до невероятного количества – шестнадцать унций. Для человека, непривычного к настойке опия, и одной унции было бы достаточно, чтобы вызвать смерть.
Несмотря на злоупотребление лауданумом (а может, наоборот, благодаря ему), Де Квинси написал ряд выдающихся эссе, которые по праву считаются одними из лучших в девятнадцатом столетии. Среди них такие, как «Английская почтовая карета» и «О стуке в ворота у Шекспира („Макбет")». Последнее считается классикой среди критиков Шекспира. Его воспоминания о Вордсворте, Кольридже и других литературных деятелях бесценны. Однако Де Квинси не в силах был писать достаточно быстро, чтобы обеспечивать жену и восьмерых детей. Испытывая постоянную нужду в деньгах, он часто менял места жительства, преследуемый взыскателями долгов.
Однажды разгневанный домовладелец год удерживал Де Квинси фактически в плену в меблированных комнатах и заставлял его писать и писать, чтобы погасить огромную задолженность. Комната, в которой он обитал, была, по выражению Де Квинси, «занесена» листами бумаги. «На столе не было свободного места даже для того, чтобы поставить чашку чая, ни единая половица не просматривалась между дверью и камином». Спастись из плена ему удалось хитростью: он попросил своего издателя прислать вместе с бумагой и письменными принадлежностями слабительные соли. Опиум оказывает такое закрепляющее воздействие, что Де Квинси, бывало, в течение пяти дней не мог опорожнить кишечник. Но в этот раз все было по-иному. Приняв огромную дозу слабительного, он несколько дней провел, практически безвылазно, в единственном на весь дом туалете. Остальные обитатели меблированных комнат настолько осточертели хозяину жалобами, что он неохотно, но отпустил Де Квинси на все четыре стороны.
В 1854 году Де Квинси было шестьдесят девять лет. Жена его была уже мертва, так же как и трое сыновей. Остальные дети рассеялись по свету: кто в Ирландии, кто в Индии, кто в Бразилии. Исключение составляла лишь Эмили, его последний ребенок, двадцати одного года от роду и единственная незамужняя из дочерей. Эмили добровольно приняла на себя уникальное в своем роде обязательство: присматривать за гениальным, эксцентричным и непредсказуемым отцом.
Из дневника Эмили Де КвинсиВоскресенье, 10 декабря 1854 года.
Сегодня утром я снова обнаружила, что отец ходит взад и вперед по внутреннему двору. Опять он проснулся намного раньше меня – должно быть, еще до рассвета. Я уверена, что слышала ночью, как скрипели половицы под его ногами, когда он направлялся мимо моей двери к лестнице и потом – бродить по темным улицам. Отец говорит, это единственный способ прогнать прочь мысли о лаудануме – направить все усилия на то, чтобы ходить и ходить и проделывать не меньше пятнадцати миль в день.
Небольшой рост только подчеркивает теперешнюю худобу отца. Я опасаюсь, как бы его чрезмерные упражнения не причинили больше вреда, чем пользы. Манера его разговора также меня беспокоит. До того как мы покинули наш дом в Эдинбурге и отправились в Лондон, чтобы поспособствовать распространению нового сборника произведений отца, он обычно вставал с тяжелой головой не раньше полудня. В течение длительного времени он категорически отказывался ехать в Лондон, но внезапно переменил решение. Он объявил, что это очень важная поездка, и я с удивлением наблюдала за его активными приготовлениями. Вскорости он взял за привычку просыпаться в девять. Буквально через пару недель время подъема отца сдвинулось на шесть утра. Во время поездки из Эдинбурга он не мог усидеть на месте и ходил по вагону, щеки его горели от напряжения.
– Чтобы отказаться от приема лауданума, – настойчиво повторял отец.
Но я-то знала, что он не отказался полностью от пагубной привычки. Среди упакованных книг и одежды находились и два пузырька с этой гадостью.
Особенно я встревожилась после такого его заявления: «Если я и дальше буду вставать все раньше: в пять, в четыре, в три, то эдак скоро окажусь во вчерашнем дне».
А я убеждена, что именно во вчерашний день ему бы и хотелось попасть. Мне кажется, эта поездка в Лондон важна для него больше именно возвращением в прошлое, нежели продвижением сборника. Или, возможно, обе цели одинаково важны и переплетаются между собой.
Дохода, который приносит занятие отца, совершенно недостаточно для того, чтобы можно было позволить себе такой шикарный дом, в каком мы здесь обитаем. Вместе с домом нам также досталась женщина средних лет – она выполняет обязанности горничной и кухарки. Отец клянется, что не знает, кто оплачивает счета, и я ему верю. Быть может, один из его старых знакомых тайком решил помочь нам совершить это путешествие, вот только я не могу вообразить, кто бы это мог быть. Ведь большинство его знакомых, Вордсворт и Кольридж например, уже скончались, или, как говорит отец, «присоединились к большинству», ведь за многие века людей умерло значительно больше, чем сейчас проживает на свете.
Наш дом находится рядом с площадью Рассел-сквер. Когда мы только прибыли (было это четыре дня назад), отец очень удивил меня, предложив прогуляться с ним немедленно, не распаковывая вещей. Мы прошли несколько кварталов и оказались на площади, где я с радостью обнаружила чудесный парк – настоящее чудо посреди шумного города. Ветерок разогнал туман. Светило солнце, что, как объяснил мне отец, для декабря редкое явление. Он рассматривал траву и голые, без листвы, деревья, и по сиянию его голубых глаз я поняла, что он погружен в воспоминания.
– Когда мне было семнадцать, я жил на улицах Лондона.
Конечно, я знала об этом, ведь отец включил описание некоторых ужасных событий того времени в свою «Исповедь».
– Я прожил на улице целую зиму, – продолжал он.
И об этом мне тоже было известно, но я уже давно приучилась позволять отцу высказать все, что у него на уме.
– В те дни на этой площади паслись коровы. Мы с товарищем много ночей спали здесь, укрываясь рваниной, которая когда-то была одеялом. Нам очень повезло, что я раздобыл старое ведро. Когда вымя у коров наполнялось, я выбирал одну из них и старательно доил. Попив парного молока, мы уже не так страдали от холода.
Отец рассказывал и не смотрел на меня. Он был весь в прошлом.
– Столько всего изменилось. Мы ведь приехали на вокзал, которого в то время еще не существовало. Я с трудом узнаю город. И мне нужно посетить так много мест.
По его тону я предположила, что некоторые места отец не хотел бы посещать, хоть и ощущал в том необходимость.
– Энн, – пробормотал он.
Мою мать звали Маргарет, а я – Эмили.
– Энн, – снова произнес отец.
Я припомнила этот разговор, наблюдая, как отец энергично меряет шагами задний дворик.
В кухню вошла наша экономка, миссис Уорден. На голове у нее была строгая шляпа, под мышкой зажат псалтырь. На обеденном столе стояли хлеб, масло, земляничный джем и чайник.
– Мисс Де Квинси, я иду в церковь. Надеюсь, что вы и ваш отец скоро тоже отправитесь туда.
С самого нашего приезда миссис Уорден держалась с отцом настороженно, а вот ко мне относилась с симпатией, – похоже, она считала, что мне приходится нести непомерное бремя.
– Да, в церковь, – ответила я, надеясь, что в моих словах не слышно притворства.
– Он кажется очень религиозным человеком, – неохотно, но с одобрением продолжала миссис Уорден. – Вы уж простите мне мою прямоту, но я такого не ожидала. Ну, вы понимаете, учитывая, какую книгу он написал.
Отец за свою жизнь написал множество книг, но тон, каким экономка произнесла это слово, не оставлял сомнений, которую из них она имела в виду.
– Да, книгу, – кивнула я.
– Ну конечно, сама-то я ее не читала.
– Конечно.
Мимо окна снова прошел отец – он так и продолжал мерить шагами дворик, из угла в угол, из угла в угол. Худое лицо его было искажено гримасой, взгляд устремлен вдаль, на нечто видимое только ему одному. В руках отец перебирал четки.
– Я вижу, насколько он набожен, – прокомментировала миссис Уорден. – Молитва во время ходьбы укрепляет как душу, так и тело.
Четки, которые сжимал отец, состояли из синих и белых бусин: одна синяя, девять белых, снова синяя и дальше опять девять белых.
– Я встречала мало католиков, – говоря о приверженцах католической церкви, миссис Уорден явно ощущала себя неуютно, – но уверена, что паписты могут быть такими же религиозными, как и англиканцы.