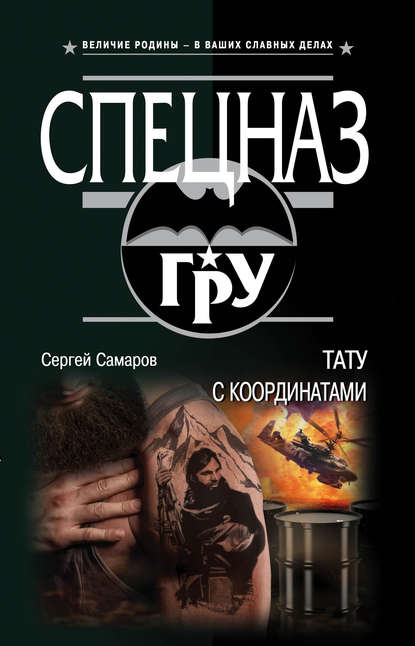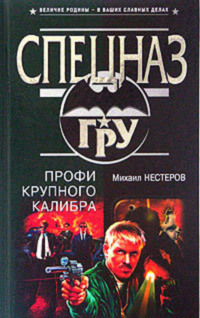Полная версия
Офицерский крематорий
Нет, я не устал от благоустроенности столицы, просто решил освежить память, подышать другим воздухом, посмотреть на других людей и отвел на это три дня, полагая, что этого времени, пожалуй, хватит.
Подходил к концу второй день пребывания в этом городе. Я прогулялся по памятным местам (правда, эмоций, на которые рассчитывал, так и не испытал), а потом меня натурально занесло в итальянский ресторан с диким, можно сказать, названием: «Грот Луперкалии». Там проводился фестиваль с одноименным названием. Ресторан принадлежал некоему Витторе Кватроччи, представителю немногочисленной итальянской диаспоры в Новограде, фамилию которого я перевел без словаря: кватро – четыре, очи – глаза. Короче, этот «четырехглазый» культивировал древний праздник, придерживаясь традиций, но не деталей, и в плане последнего – празднество было подпорчено.
Луперкалии – от латинского lupus, волк. Древнеримский языческий праздник плодородия в честь Луперка – бога Фавна. Фестиваль связан с пастушеским культом. Он проводится каждый год с 13 по 15 февраля в гроте Lupercal у подножия Палатинского холма, где по преданию волчица выкормила Ромула и Рема, основателей Рима. Каждый год луперки, жрецы Луперка из патрицианской молодежи, собирались в этом гроте, где на специальном алтаре приносили в жертву молодых коз и собак, а после ритуальной трапезы разрезали шкуры жертвенных козлов, раздевались донага, бегали по городу и стегали всех встречных кусками шкур. Женщины охотно подставляли тела под удары, так как считалось, что удар луперка помогает легче разрешиться от бремени. В Древнем Риме Луперкалии считались заимствованным празднованием древнегреческого бога Пана, который, как покровитель стад и охранитель их от волков, имел прозвище Луперк. В 496 году папа Геласий запретил Луперкалии. Со временем празднование Дня Святого Валентина как дня влюбленных заменило Луперкалии.
Все это я почерпнул из брошюры, отпечатанной на глянцевой бумаге.
В ресторане я рассчитывал на красочное зрелище, но так и не увидел его. Единственное, что мне действительно пришлось по вкусу, так это спагетти под чесночным соусом и обслуживание. Моим сервисменом был итальянец по имени Карло, одетый в безрукавку и рубашку с белоснежным воротничком. Принимая заказ, он дежурно поинтересовался: «Первый раз в нашем ресторане?» Я ответил: «Да, купил билет за две с половиной штуки». Карло рассмеялся: «Так делают приезжие. Сегодня их немало в этом зале».
Ну и, конечно, я забыл упомянуть о свете: на каждом столике – светильник, причем не тускло-интимный, а яркий, я бы сказал, разоблачающий.
В общем и целом, я попался на рекламный трюк и собрался было уйти, как вдруг взгляд мой упал на женщину лет тридцати…
В первую очередь я обратил внимание на ее губы (хотя обычно сразу отмечаю цвет и выражение глаз) – мне они показались слегка припухшими. И если бы ее глаза были, что называется, на мокром месте, я бы решил, что эта женщина минуту назад плакала навзрыд… А вот глаза ее поражали своей глубиной. Так светятся на дне чистейшего колодца две серебряные монеты. Я бы никогда не осмелился назвать их серыми – столько в них было серебра! Прохладные, они в сочетании с четко очерченными скулами чуть отталкивали от себя, во всяком случае, могли удержать собеседника на расстоянии.
Я остановил проходившего мимо моего столика Карло и попросил у него авторучку. Он без колебаний и тени недоумения вручил мне гелевую. Бумага же была мне не нужна. Рисунок на салфетке – избитый, даже слегка пошловатый прием. Я расправил на столе свой девственно-чистый носовой платок и сделал первые штрихи, послав продолжительный взгляд на женщину. Она тоже бросила на меня взгляд – короткий, но не первый и не второй: таких я насчитал не меньше десятка, из них половина, может быть, – случайные. Конечно, она могла заинтересоваться мной в гастрономическом плане: шеф-повар какого ресторана сотворил из моего лица свиную отбивную? Мне было плевать на свой наружный облик, сейчас меня притягивала внешность этой женщины, которой я был буквально пленен.
Уже через пять минут она сообразила, что я переношу ее образ на своеобразный холст. Брови ее сошлись к переносице, и я решил, что холодок в сочетании с недовольством не исказили ее лицо в худшую сторону. На сколько хватит ее терпения? Я дал ей (и себе тоже) пять минут, рассчитывая за это время закончить портрет.
Мы оба уложились в срок. Она презентовала мне несколько дополнительных секунд, как будто для того, чтобы я смог поставить свое имя в нижнем углу портрета. Что я и сделал, начертав гелем свои инициалы: ПИБ. Причем «И» получилась меньше, что в целом читалось как Пэ и Бэ. «Вот это звучит сексуально», – подумал я и поднял глаза на свою невольную натурщицу. Серебряные динары в ее глазах гневно блеснули:
– Вы что, рисуете меня?! Кто вам дал на это разрешение?
Разрешение? Вообще-то люди в таких случаях обычно употребляют другое слово: право. Но это ее личное дело.
– Я уже нарисовал. Извините.
– Дайте сюда это… – пощелкала она тонкими изящными пальцами.
Я с сожалением вздохнул и, взяв платок с двух сторон, поднял его, закрывая им свое лицо и демонстрируя ей ее же портрет.
Мне показалось, прошла не одна минута. Хотя почему нет? То, в каком стиле я изобразил ее на полотне, можно рассматривать часами.
Она села рядом – справа от меня – и прикосновением руки заставила меня опустить рисунок.
– Это… У меня нет слов… Кто вы? Только скажите честно! По вашим глазам вижу, вы хотите отшутиться. Но такими вещами не шутят. Это прекрасно… – Она повернула рисунок к себе и покачала головой.
С холста на нее смотрела строгая женщина с нахмуренными бровями. От внешнего мира ее отделяло окно террасы – те самые клетки носового платка, которых не затронул ни один штрих. Поэтому рисунок оказался объемным, как голограмма.
Мы, словно сговорившись, не стали обмениваться банальностями вроде: «Вы художник?» – «Да, свободный».
Она заказала вина. Когда официант принес «Амаретто», я вернул ему авторучку и поблагодарил его. Мы выпили. Она сложила платок по сгибам и глазами спросила: «Я могу оставить его себе?» – «Да», – так же ответил я.
Роман. Я улыбнулся этому старомодному, выполосканному в Черном море слову. С этой женщиной у меня завязывались романтические отношения, и я был чертовски рад этому обстоятельству. Вдруг в голове отчего-то прозвучал голос Адриано Челентано…
– Извините, я на минуточку, – сказал я и подошел к бармену. – Слушай, друг, в твоей фонотеке есть песни Челентано?
– Точно не знаю, я – управляющий, подменил бармена на десять – пятнадцать минут. Витторе, – представился он.
– Павел, – назвал я свое имя.
– Вам любую поставить или… определенную? – с небольшой задержкой подобрал он слово.
– Определенную. Он еще там по-русски поет: «Я тебя люблю. Я жить без тебя не могу».
– Очень нужно? – спросил Витторе, бросив взгляд на мою спутницу за столиком. – Четверть часа подождать можете?
Я промолчал. Витторе, бросив под нос: «Не знаю, что есть на жестком диске», набрал в поисковой строке браузера ключевые слова. Он не стал обращаться к перечню фонотеки ресторана – нашел песню в сети, и она прозвучала буквально в прямом эфире. Я кивнул Кватроччи: «Спасибо!» – и вернулся на свое место.
– Давай наконец познакомимся, – первой перешла она на «ты». – Меня зовут Рита.
– Павел, – назвался я.
– Потанцуем? – предложила она.
Последний раз я танцевал на выпускном вечере в военном училище (не раз отплясывал в кабаке, но это не в счет). С тех пор прошло всего шесть лет, а мне казалось – целая вечность.
«Проснувшись утром, снова я пытаюсь угадать, что, ангел мой, ты в снах своих увидела опять? Который раз я с трепетом смотрю в твой сонный взор, что обращен ко мне. Я знаю – я тебя люблю, свой мир тебе я отдаю».
Челентано последний раз признался в любви, а я, кроме своего имени, больше ничего не произнес.
Мы выпили по бокалу вина. Я не любил «Амаретто», но сегодня оно пришлось по вкусу, и я даже уловил нечто похожее на послевкусие, как будто разгрыз абрикосовую косточку.
– Ты не из вагантов?
– Прости?
– Не обижайся, – коснулась она моей руки.
Как я мог обидеться на такой лестный отзыв? Вагант – странствующий художник-артист, бродяга. Я многое изменил бы в жизни, лишь бы сегодня сказать правду о себе: «Да, я – из вагантов».
Ее глаза выпрашивали ответ, и я подчинился им. Сказал то, что она хотела услышать:
– О таких, как я, говорят: он – свободный художник.
Мой отец, будь он за соседним столиком, поперхнулся бы итальянской лапшой, а потом рассмеялся бы мне в лицо. Но его не было рядом, и слава богу.
Рита не смогла подобрать определения и заменила его жестом, коснувшись рисунка:
– Этим ты зарабатываешь себе на жизнь?
В ее глазах перемешались интерес, сочувствие, непонимание. Для нее я стал «поэтом из грязи» по прозвищу Ветер, которому отдалась прекрасная, но «гневная» в этом фильме Анжелика. Языком моего отца, я зарабатывал себе на жизнь «художествами» – так он назвал мое ремесло, бросая перед ним частицу «эти». Эти художества. По этой причине я реже, чем с отцом, встречался с матерью: ей стыдно было смотреть мне в глаза. А ведь она не старая, вдруг как откровение обрушилось на меня, ей до пенсии… раз, два, три – четыре года.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.