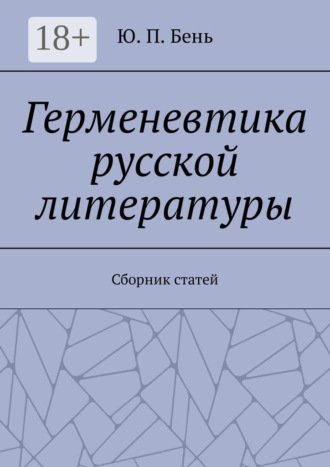
Полная версия
Герменевтика русской литературы. Сборник статей
Пеплу Лука советует уйти в Сибирь, в золотую сторону, где место сильному и разумному человеку. Проясняется и отношение Луки к реальной правде жизни:
«И чего тебе, правда, больно нужна подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя» (с.125).
Совершенно несправедливы упреки критики советского периода в адрес Луки, касающиеся его бездействия. Ведь именно Лука, нарушая неписаный кодекс странничества (созерцательность и недеяние), вызывает своим вмешательством отсрочку развязки социально-бытового конфликта драмы – муж – жена – любовник, вор – собственник. В третьем акте Лука защищает Настю от нападок Барона, который своими циничными замечаниями разрушает ее иллюзии, в разговоре с Наташей советует ей держаться Пепла: «Он парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе поверит…» (с.142).
Несколько ранее следует двойная перебивка действия. Словно подкрепляя свои декларативные заявления о вере, Боге, правде, словно опровергая безысходную философию Васьки Пепла о предназначенной ему по рождению судьбе вора. Лука рассказывает две истории – о сбежавших каторжанах и о праведной земле. Тем не менее, третий акт заканчивается убийством Костылева Пеплом и истерикой обваренной кипятком Наташи, посчитавшей, что её сестра Василиса и Пепел были в сговоре. Лука исчезает. По мнению некоторых советских критиков, это также дискредитирует образ странника. Но ведь сострадание всегда имеет двойственную природу, что хорошо показано в романах Ф. М. Достоевского. В этой связи известный русский философ Н. Лосский в книге «Бог и мировое зло» пишет: «Мягкие характеры, добрые люди часто испытывают сострадание, но при этом они сами заражаются чужим страданием, люди с дисциплинированной силой духа, воспринимая чужое страдание, борются против него, как боролись бы против собственной беды» (5, 186).
Луку, как известно «много мяли» и он, безусловно, не относится к типу борцов, к пассивности его побуждают и мудрая боязнь заразиться, хорошо зная свою натуру, и этика странничества как выбора одиночного пути. Исчезновение странника во время суматохи констатирует Клещ в начале четвёртого акта. Старческая горечь утешения умирающей Анны, в случае с Пеплом оборачивается старческим карканьем. Сатин не прав – если будет доказан факт сговора и предумышленного убийства, то Пепел пойдёт не в тюрьму, а в Сибирь. Пойдёт не в качестве свободного человека, как советовал ему Лука, а с бубновым тузом на спине. Здесь необходимо отметить ещё одно значение имени главного персонажа пьесы. Лука – имя одного из авторов Евангелия, причём, по мнению исследователей самого красноречивого. «Благая весть» (Евангелие) оборачивается в драме строго в круге понимания Фридриха Ницше, который пишет: «Евангелие умерло на кресте, то, что с этого мгновения называется «благая весть», было уже противоположностью по жизни: «дурная весть» (6,663). В четвёртом акте, взбаламученное неординарными событиями дно обсуждает странного странника. Мнения разделяются:
Клещ – «Жалостливый был».
Настя – «Хороший был старичок».
Татарин – «Закон души имел».
Барон – «Старик глуп».
И, наконец.
Сатин – «Любопытный старикан. Он умница, он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету» (с.155).
То, что именно Сатина Горький делает защитником Луки отметил еще В. Ф. Ходасевич, хорошо знавший М. Горького. Ему же принадлежит наблюдение, что « …образ Сатина, по сравнению с образом Луки, написан бледно и главное – нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям» (7,152).
При наличии такого типа, как Сатин, дискуссия не может не перейти в онтологическую плоскость. И всё это под водку с пивом. Здесь литературно-бутафорский мир драмы («испорченный барон», чувствительная проститутка, уличный философ Бубнов, враждующие сестры – «Король Лир», искаженные цитаты из «Гамлета») взрывается «анархизмом побеждённых», как это называл сам Горький, то есть пьяным красноречием Сатина:
«Ложь – религия рабов и хозяев».
«Правда – бог свободного человека».
«Человек – вот, правда».
«Человек – это звучит гордо» (с. 157)..
Комментаторы не заметили скрытую в этой эскападе Сатина аллюзию на роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». «Магомет и Наполеон» – это из разговора Родиона Раскольникова и Порфирия Петровича по поводу статьи первого. Горький никак не может отказаться от идеологии «сверхчеловеческого босячества». По мнению Карла Ясперса немецкого философа-экзистенциалиста «философскую веру (в данном случае горьковскую веру в человека – Ю. Б.) надо характеризовать негативно. Он пишет: «Она не может стать исповеданием; её мысль не становится догматом. Философская вера не имеет прочной опоры в виде объективного конечного мира, потому что она только пользуется своими основоположениями, понятиями, методами, не подчиняясь им. Её субстанция всецело исторична, не может быть фиксирована во всеобщем – она может только высказать себя в нём… Уже в пафосе безоговорочного утверждения, которое звучит как возвещение, нам угрожает утрата философичности» (8, 425). Только в 1918 году Горький осознает, чем обернулась для его России стремление доказать на практике жизнеспособность философской (марксистской) веры и напишет «Несвоевременные мысли». Дело здесь не в отсутствии у писателя глубинных философских знаний, что неоднократно подчёркивал европейски образованный Д. С. Мережковский, а в самом характере природной натуры Горького. Максим Горький – автор «Несвоевременных мыслей» и очерка «Владимир Ильич Ленин», Горький, плакавший даже над самыми бездарными стихами, и автор предисловия к позорному сборнику очерков советских писателей о строительстве Беломорканала, Горький ходатай за Александра Блока и Фёдора Сологуба, и пролетарский писатель, живущий в особняке Рябушинского, молчавший во время разгрома Сталиным оппозиции, – это не разные Горькие. Перед нами персонаж, словно сошедший со страниц романов Достоевского, отсюда и его интерес к «карамазовщине». Человек лучше всего знавший и чувствующий Горького, его закадычный враг Леонид Андреев замечает в одном из писем к нему: «Представь себе Дьявола женщиной, Бога – мужчиной, и они родят новое существо, – такое же конечно двойственное, как мы с тобой» (9, 392 – 393).
Выбранный нами предмет исследования драма «На дне» также отмечена этой печатью двойственности человеческой натуры Горького. Чего стоит только финальная реплика Сатина при известии о самоубийстве Актёра. Но сказывается «основание художественной индивидуальности Горького – его деспотизм» (10, 575), и поставленная цель достигнута. Самоубийцей становится человек, первый обнадёженный странником Лукой. С этой точки зрения перед нами самая цельная и сценичная пьеса Максима Горького. Вопрос в том возможно ли сегодня такое постановочное решение, при котором органично идеал сострадания был бы представлен как костыль для искалеченных душ. Вопрос в том, не прав ли Иннокентий Анненский, отметивший в своей статье «Драма на дне», альтернативу для обитателей костылевской ночлежки – либо ложь – либо водка (11, 343). И не является ли эта альтернатива – либо водка – либо ложь, собственно русской, начиная с петровских времён и до наших дней.
Литература
1 Неманов Л. Беседа на пароходе с М. Горьким // Петербургская газета, 1903, №16.. 2.Горький М. Заметки о мещанстве //М. Горький. Собр. соч.: В 16 т. М., 1979. Т.16.
3. Мережковский Д. С. Не святая Русь // Акрополь. М., 1991.
4.Ницше Ф. Утренняя заря или мысли о моральных предрассудках // Ф. Ницше. Избранное. Минск. 1997.
5. Лосский Н. О. Миропонимание Достоевского // Бог и мировое зло. М.,1994.
6. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству // Ницше. Соч.: В 2т. М., 1990. Т.2., 7. Ходасевич В. Ф.. Горький // Некрополь. М., 2001.
8. Ясперс К. Философская вера // Смысл и назначение истории. М., 1991.
9. М. Горький и Л. Андреев. Неизданная переписка // Литературное наследство. Т. 72. М., 1965.
10. Андреев Л. Н.. Неосторожные мысли о Горьком // Леонид Андреев. Собр. соч.: В 6 т. М.,1996. Т.6.
11. Анненский И. Ф. Драма на дне // Иннокентий Анненский. Избранные произведения. Л., 1998.
Повесть Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского»
Вся совокупность опыта походит
на шифрованное письмо.
А. Шопенгауэр
Повесть Леонида Андреева «Жизнь Василия Фивейского» была опубликована в 1903 году и вызвала оживленную дискуссию в светской и клерикальной печати. Все исследователи как дореволюционного, так и нового времени, подчеркивали этапное значение повести для творчества писателя. Однако, начиная с книги М.А.Рейснера и заканчивая монографией Л. А. Иезуитовой («Л. Андреев и его социальная идеология» – 1909г., «Творчество Леонида Андреева» – I976г.) рассматривался, в основном, социальный план повести в тесной связи с «Исповедью» священника Аполлова и библейский источник – Книга Иова. Философский смысл повести оставался затемненным. Высветить его позволяет сопоставление текста повести и философского учения Артура Шопенгауэра, философа, оказавшего существенное влияние на мировоззрение Леонида Андреева (1). Попытка такого рода представляется достаточно актуальной, так как «произведение литературы, то есть, как мне представляемся, преимущественно текст, не только пригоден для толкования, но и испытывает хронический недостаток в нем» (2,135).
Жизнь отца Василия как повторение трагических состояний
По Шопенгауэру разгадка смысла всех явлений заключена в слове «Воля». Это ключевое слово «воля» не однократно встречается в повести «Жизнь Василия Фивейского». Суровый и загадочный рок, тяготеющий над всей жизнью отца Василия – есть не что иное, как шопенгауэровское бесконечное стремление воли. Это стремление слепо и непредсказуемо развертывается в разладах, конфликтах, борьбе. В этом источник всех страданий человека и избавиться от них невозможно, потому что их источник в природе самого человека. Жизнь каждого человека – бесконечное повторение трагических состояний, так как человек – это «воля волений». Жизнь отца Василия не является исключением. Событийная сторона этих трагических состояний выражена в смерти сына, пьянстве попадьи, потери уважения паствы, рождении сына-урода, жестокости дочери, еретических сомнениях, смерти жены. Василий Фивейский стремится проникнуть в глубинный смысл этих страшных событий, но эти попытки обречены на неудачу. Д.С.Мережковский в своей известной статье «В обезьяньих лапах» пишет о несоответствии ума и воли героя повести, тем самым, совершая системную ошибку, ведь Шопенгауэр считает возможным обозначить понятие «воля» кантовским термином «вещь в себе». По этой причине попытка отца Василия, посредством инструмента познания – разума, через событийную сторону своей жизни проникнуть в ее смысл, обречена. Библейский Иов, параллели, с судьбой которого явно обнаруживаются в тексте повести (седьмой год благополучия, смерть близких, пожар, лишаи Насти, смерть борова), пройдя через страшные испытания, видит себя в присутствии Бога, и проблема разрешается: «праведные страдают, чтобы прийти к самопознанию и самоосуждению, посылаемые страдания не есть наказание за грехи, но целебны и очистительны» – объясняет комментатор Библии Ч. Скоуфилд (3,.609). Фивейскому не дано испытать присутствие Бога, он даже сомневается, есть ли Бог в нем самом. Иов на роптания жены отвечает: «Ты говоришь как безумная, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Кн. Иова. 42:6). Герой повести Андреева сам близок к безумию и грозит небу кулаком. Именно потому, что отец Василий не хочет принять то, что для Иова существует как данность, и разнится финал их судеб. Иов живет еще сто сорок лет и видит своих сыновей до четвертого рода, Фивейский вскоре умирает и перед смертью видит своего единственного сына в навязчивом кошмаре. Перед ним возникает страшный образ урода с вывернутыми ноздрями, огромным ртом и хищными пальцами. Этот гипертрофированный образ сына-идиота является символом слепой и всепожирающей воли, «Совершенно невозможно проникнуть в существо вещей извне, – пишет А. Шопенгауэр, – как бы далеко мы не заходили в своем исследовании, в результате окажутся только образы и имена» (4,131).Образ идиота в гробу в абсурдном сочетании с именем несчастного Мосягина и есть свидетельство бесплодной попытки героя повести постичь смысл несчастий своей жизни. Мося, по словарю Даля, овца, это не может не вызывать ассоциацию – овцы – пастырь).
Воля и самосознание Василия Фивейского
Шопенгауэр определяет самосознание как «сознание своего собственного Я в противоположность сознанию других вещей, которое есть познавательная способность» (5, 5I).Трагические события жизни усиливают внимание героя повести к собственному Я, но идет оно как бы по кругу – сомнения в вере – уверенность в своей избранности Богом – мучительный вопрос «так зачем же я верил?» перед смертью. «Проклятые вопросы» русского интеллигентского сознания в проекции на священный сан героя определили и главный андреевский вопрос:
«Как найти в себе Бога и поверить в мудрость его?» (6,382). Это же определило маркировку вопроса, так, как слово-разгадка известно: «На него смотрели бездонно-голубые глаза, черные, страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, чья-то грозная воля (выделено мной – Б.Ю.) выходила оттуда как заостренный меч» (Леонид Андреев. Собр. соч.: В 5т. М., Худ. лит.,1990. С.524. Т.1 – в дальнейшем все цитаты из текста приводятся по этому изданию).
Шопенгауэру представляется, что решения нашего внутреннего Я сразу же переходят в мир наглядных представлений и в какой-то мере это спасение для человека, определенный момент, соединяющий два мира, несколько гармонизирующий его. Если таким мостом считать бессознательное в сознании и согласиться с К. Юнгом, что «сон – нормальное психическое явление, передающее бессознательные реакции или спонтанные импульсы сознанию» (7,63), то следует обратиться к ранней редакции повести, которая включает в себя сон Василия Фивейского. Гора, редкие черные деревья, необыкновенная тишина, небо в холодном и красном огне – содержат не только указание на страшную судьбу героя, но и вполне прозрачные аллюзии с Елеонской горой, где Иисус молил об удалении от себя чаши страданий, и с Фаворском горой, где заблистал огонь во время беседы Иисуса с Отцом небесным. Чашу страданий, как известно, не пронесли. Выпивает ее до дна и герой повести Андреева, сотворенный по образу и подобию Божьему священник Василий Фивейский. Здесь у писателя была возможность усиления религиозного плана повести, но вероятно, известная дискуссия между Церковью православной и Церковью римско-католической о первородном грехе и благодати его не интересует.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

