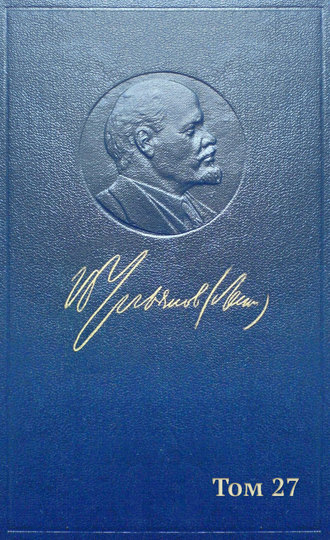 полная версия
полная версияПолное собрание сочинений. Том 27. Август 1915 – июнь 1916
Буржуазия всех стран, и воюющих в первую голову, вполне объединилась с начала войны на расхваливании социалистов, признающих «защиту отечества», т. е. защиту грабительских интересов буржуазии в империалистской войне против пролетариата. Посмотрите же, как этот основной и самый существенный интерес международной буржуазии пролагает себе дорогу, находит себе выражение внутри социалистических партий, внутри рабочего движения. Пример Германии здесь особенно поучителен, ибо в этой стране эпоха II Интернационала создала самую сильную партию, но в других странах мы видим вполне и целиком то же самое, что в Германии, лишь с ничтожными различиями формы, обличья, внешности.
В апреле 1915 г. консервативный германский журнал «Preußische Jahrbücher»{59} поместил статью социал-демократа, члена с.-д. партии, который скрылся под псевдонимом Monitor'a. И этот оппортунист выболтал правду, открыто сказал то, в чем состоит суть политики всей всемирной буржуазии по отношению к рабочему движению XX века. Ни отмахнуться от этого движения, ни подавить его грубой силой уже нельзя. Его надо развратить извнутри, купив верхний слой его. Именно так поступала уже десятилетия англо-французская буржуазия, покупая тред-юнионистских вождей, Мильеранов, Брианов и Ко. Именно так поступает теперь и немецкая. С.-д. партия, – говорит Monitor перед лицом буржуазии (а, по сути дела, от имени буржуазии) – ведет себя «безукоризненно» во время войны (т. е. безукоризненно служит буржуазии против пролетариата). «Процесс перерождения» с.-д. партии в национал-либеральную рабочую партию идет вперед великолепно. Но опасно было бы для буржуазии, если бы эта партия поправела: «Характер рабочей партии с социалистическими идеалами она должна сохранить. Ибо в тот день, когда она откажется от этого, возникнет новая партия, которая воспримет программу, от которой старая прежняя партия отреклась, и придаст ей еще более радикальную формулировку» («Рг. I», 1915, № 4, 50–51).
В этих словах открыто выражено то, что всегда и повсюду прикрыто делала буржуазия. Массам нужны «радикальные» слова, чтобы массы верили в них. Оппортунисты готовы повторять их лицемерно. Им полезны, нужны такие партии, каковы были с.-д. партии II Интернационала, ибо они породили защиту буржуазии социалистами в кризис 1914–1915 гг.! Совершенно ту же политику, как немец Monitor, ведут фабианцы и либеральные вожди тред-юнионов в Англии{60}, оппортунисты и жоресисты{61} во Франции. Monitor – оппортунист откровенный или циничный. Посмотрите на другой оттенок, на оппортуниста прикровенного или «честного». (Энгельс справедливо сказал однажды, что «честные» оппортунисты самые опасные для рабочего движения{62}.) Образчик таковых – Каутский.
В № 9 «Ν. Ζ.» 26. XI. 1915 г. он пишет, что большинство официальной партии нарушает ее программу (сам Каутский защищал политику этого большинства целый год после войны и оправдывал ложь «защиты отечества»!). «Оппозиция против большинства растет» (272). («Die Opposition gegen die Mehrheit im Wachsen ist».) Массы «оппозиционны» («oppositionell»). «Nach dem Kriege»… (nur nach dem Kriege?)… «werden die Klassengegensätze sich so verschärfen, daß der Radikalismus in den Massen die Oberhand gewinnt» (272)… Es «droht uns nach dem Kriege» (nur nach dem Kriege?) «die Flucht der radikalen Elemente aus der Partei u. ihr Zustrom zu einer Richtung antiparlamentarischer» (?? soll heißen: außerparlamentarischer) «Massenaktionen»… «So zerfällt unsere Partei in zwei Extreme, die nichts Gemeinsames haben…»[19]
Каутский хочет представлять «золотую середину», примирять эти «2 крайности», «не имеющие между собой ничего общего»!! Он признает теперь (16 месяцев после начала войны), что массы революционны. И, осуждая тут же революционные действия, называя их «Abenteuer» «in den Straßen» (S. 272)[20], Каутский хочет «примирить» революционные массы с «неимеющими с ними ничего общего» оппортунистами-вожаками – примирить на чем? На словах! На «левых» словах «левого» меньшинства в рейхстаге!! Пускай меньшинство осуждает, как Каутский, революционные действия, называет их авантюрой, но кормит массы левыми словами – и тогда в партии будет единство и мир… с Зюдекумами, Легинами, Давидами, Monnor'ами!!
Да ведь это целиком та же программа Monitor'a, программа буржуазии, лишь выраженная «добрым голосом», «сладенькими фразами»!! И эту программу проводил также Wurm, когда в заседании с.-д. фракции рейхстага 18. III. 1915 er «warnte die Fraktion den Bogen zu überspannen; in den Arbeitermassen wachse die Opposition gegen die Fraktionstaktik; es gelte, beim marxistischen Zentrum zu verharren». (S. 67 «Klassenkampf gegen den Krieg! Material zum «Fall Liebknecht»». Als Manuskript gedruckt.)[21]
Заметьте, что здесь от имени всего «марксистского центра» (Каутский в том числе) признается, что массы революционны! И это 18. III. 1915!!! Через 81/2 месяцев, 26. XI. 1915, Каутский опять предлагает успокоить революционные массы левыми речами!!
Оппортунизм Каутского отличается от оппортунизма Monitor'a только словами, только оттенками, только способами достижения одной цели: сохранения влияния оппортунистов (т. е. буржуазии) на массы, сохранить подчинение оппортунистам (т. е. буржуазии) пролетариата!! Очень метко назвали Паннекук и Гортер позицию Каутского «пассивным радикализмом» (verbiage[22], как говорят французы, прекрасно изучившие эту разновидность революционности на своих «родных» образцах!!). Но я бы предпочел назвать это прикровенным, робким, лицемерным, слащавым оппортунизмом.
По сути дела 2 направления в социал-демократии отличаются теперь вовсе не словами и не фразами. По части соединения «защиты отечества» (т. е. защиты грабежей буржуазии) с фразами о социализме, интернационализме, свободе народов и т. п. Вандервельде, Ренодель, Самба, Гайндман, Гендерсон, Ллойд Джордж не уступят Легину, Зюдекуму и Каутскому с Гаазе! Действительное различие начинается именно с полного отрицания защиты отечества в данной войне, с признания революционных действий в связи с ней, во время нее и после нее. И в этом, единственном серьезном вопросе, единственно деловом, Каутский и Кольб с Гейне едино суть.
Сравните фабианцев в Англии и каутскианцев в Германии. Первые почти либералы, никогда не признававшие марксизма. Энгельс писал о фабианцах 18 января 1893 г.: «…шайка карьеристов, достаточно рассудительных, чтобы понимать неизбежность социального переворота, но ни в коем случае не желающих доверить эту исполинскую работу исключительно незрелому пролетариату… Их основной принцип – страх перед революцией…» {63}. И 11 ноября 1893 г.: «высокомерные буржуа, милостиво снисходящие к пролетариату, чтобы освободить его сверху, если бы только он захотел понять, что такая серая необразованная масса не может сама себя освободить и ничего не может достигнуть без милости этих умных адвокатов, литераторов и сентиментальных баб…»{64}. Как далеки от них каутскианцы по своей «теории»! А на практике, в их отношении к войне, те и другие вполне совпадают! Наглядное доказательство того, как выветрился весь марксизм у каутскианцев, как превратился он в мертвую букву, в лицемерную фразу.
Какими явными софизмами опровергали каутскианцы после войны тактику революционных пролетарских действий, единогласно принятую социалистами в Базеле, можно видеть из следующих примеров. Каутский выдвинул теорию «ультраимпериализма». Он разумел под этим замену «борьбы национальных финансовых капиталов между собой общею эксплуатациею мира интернационально-объединенным финансовым капиталом» («Ν. Ζ.» № 5, 30. IV. 1915, S. 144). При этом сам Каутский добавлял: «Осуществима ли подобная новая фаза капитализма, для решения этого нет еще достаточных предпосылок»!! На основании того, что «мыслима» новая фаза, которую сам же ее сочинитель не решается даже объявить «осуществимой», отрицаются революционные задачи пролетариата теперь, во время заведомо наступившей фазы кризиса и войны! И отрицает революционные действия тот самый авторитет II Интернационала, который в 1909 г. писал целую книгу «Путь к власти», переведенную почти на все главные европейские языки и доказывавшую связь грядущей войны с революцией, доказывавшую, что «революция не может быть преждевременной»!!
В 1909 году Каутский доказывает, что миновала эпоха «мирного» капитализма, грядет эпоха войн и революций. В 1912 году Базельский манифест именно этот взгляд кладет в основу всей тактики социалистических партий мира. В 1914 году наступает война, наступает «экономический и политический кризис», предвиденный Штутгартом и Базелем. И Каутский выдумывает теоретические «отговорки» против революционной тактики!
П. Б. Аксельрод проводит те же идеи в чуточку более «левой» фразеологии: он пишет в свободной Швейцарии и желает влиять на русских революционных рабочих («Die Krise und die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie». Zürich, 1915[23]). Здесь мы читаем приятное для оппортунистов и буржуа всего мира открытие, что «das Internationalisierungsproblem der Arbeiterbewegung ist mit der Frage der Revolutionisierung unserer Kampfesformen und Methoden nicht identisch» (37) и что «Der Schwerpunkt des Internationalisierungsproblems der proletarischen Befreiungsbewegung liegt in der weiteren Entwicklung u. Internationalisierung eben jener Alltagspraxis» (40)… «beispielsweise müssen die Arbeiterschutzu. Versicherungsgesetzgebung… zum Objekt ihrer (der Arbeiter) internationalen Aktionen u. Organisationen werden» (39)[24].
Разумеется, не только Зюдекумы, Легины и Гайндманы с Вандервельде, но и Ллойд Джорджи, Науманы и Брианы всецело одобрят такой «интернационализм»! Аксельрод защищает «интернационализм» Каутского, не приведя и не разобрав ни единого довода его за защиту отечества. Аксельрод – как и франкофильские социал-шовинисты – боится даже вспомнить, что Базельский манифест говорит именно о революционной тактике. Для будущего, – неопределенного, неизвестного будущего, – Аксельрод готов бросить самые левые, ррреволюционные фразы о том, как будущий Интернационал выступит – entgegentreten wird (den Regierungen im Falle der Kriegsgefahr) «mit der Entfachung eines revolutionдren Sturmes»… «Einleitung der sozialistischen Revolution» (14)[25]. Не шутите!! А когда речь идет о применении именно теперь, во время теперешнего кризиса, революционной тактики, Аксельрод отвечает ganz а la Kautsky: «revolutionäre Massenaktionen»… эта тактика… «hätte noch eine gewisse Berechtigung, wenn wir unmittelbar am Vorabend der sozialen Revolution ständen, ähnlich wie es etwa in Rußland seit den Studentendemonstrationen des J. 1901 der Fall war, die das Herannahen entscheidender Kämpfe gegen den Absolutismus ankündigten»[26]… (40–41) и дальше громы против «Utopien»[27] «Bakunismus»[28], вполне в духе Кольба, Гейне, Зюдекума и Легина!! Но пример России особенно наглядно разоблачает Аксельрода. С 1901 по 1905 г. прошло 4 года, и никто не мог ручаться в 1901 г., что революция в России (первая революция против абсолютизма) наступит через 4 года. Совершенно таково же положение Европы перед соц. революцией. Никто не может ручаться, наступит ли первая революция этого рода через 4 года. Но что революционная ситуация есть налицо, это факт, предсказанный в 1912 г. и наступивший в 1914 г. Демонстрации рабочих и голодающих горожан в России и в Германии 1914 года также несомненно «anküdigen das Herannahen entscheidender Kämpfe»[29]. Прямой и безусловный долг социалистов – поддерживать и развивать эти демонстрации и всякого рода «революционные массовые действия» (стачки, экономические и политические, движение в войске вплоть до восстания и гражданской войны), давать им ясные лозунги, создавать нелегальную организацию и литературу, без которой нельзя звать массы к революции, помогать им осознать ее, организоваться для нее. Именно так поступали с.-д. в России 1901 г. перед «Am Vorabend»[30] буржуазной революции (которая началась в 1905 г., но не кончилась и в 1915). Именно так обязаны поступать с.-д. в Европе 1914–1915 гг. «am Vorabend» der sozialistischen Revolution[31]. Революции никогда не рождаются готовыми, не выходят из головы Юпитера, не вспыхивают сразу. Им предшествует всегда процесс брожений, кризисов, движений, возмущений, начала революции, причем это начало не всегда развивается до конца (например, если слаб революционный класс). Аксельрод выдумывает отговорки, отвлекая с.-д. от их долга помогать развитию революционных движений, уже начинающихся на почве уже наличной революционной ситуации. Аксельрод защищает тактику Давида и фабианцев, только прикрывая свой оппортунизм левыми фразами.
«Den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg umwandeln zu wollen wäre Wahnsinn gewesen»[32], – пишет вождь оппортунистов Э. Давид («Die Sozialdemokratie im Weltkrieg», Brl., 1915, S. 172[33]), возражая на манифест ЦК нашей партии РСДРП, опубликованный 1. XI. 1914 и бросивший этот лозунг и добавивший «Wie groß die Schwierigkeiten dieser Umwandlung zur gegebenen Zeit auch sein mögen, – die Sozialisten werden niemals ablehnen, die Vorarbeiten in der bezeichneten Richtung systematisch, unbeugsam und energisch auszuführen, falls der Krieg zur Tatsache geworden ist» (zitiert bei David. S. 171[34]). Заметим, что за месяц до выхода книги Давида (1. V. 1915 г.) наша партия опубликовала (№ 40 «С.-Д.», 29. III) резолюции о войне: систематические «шаги по пути превращения империалистской войны в гражданскую» определялись в них следующим образом: 1) отказ от вотирования военных кредитов etc; 2) разрыв «Burgfrieden»[35]; 3) создание нелегальной организации; 4) поддержка братанья солдат в траншеях; 5) поддержка всякого рода революционных массовых выступлений пролетариата вообще.
О, храбрый Давид! В 1912 г. он не находил «безумной» ссылку на пример Парижской Коммуны. В 1914 г. он подпевает буржуазии: «безумие»!!
Вполне согласную с Давидом оценку революционной тактики дал Плеханов, типичный представитель социал-шовинистов «4-ного согласия». Он назвал мысли о…[36]… именно «Vorabend»[37] социальной революции, от которого может пройти и 4 и более лет до «entscheidende Kämpfe»[38]. Это есть именно начатки, пусть слабые, но все же зачатки «пролетарской революции», о которой говорил Базель и которая никогда не станет сразу сильной, а неизбежно пройдет стадии сравнительно слабых зачатков.
Поддержка, развитие, расширение, обострение революционных массовых действий и революционного движения. Создание нелегальной организации для пропаганды и агитации в этом направлении, для помощи массам осознать движение и его задачи, его средства, его цели. К этим 2-м пунктам неизбежно сводится всякая практическая программа деятельности с.-д. во время данной войны. Все остальное – оппортунистическая, контрреволюционная фраза, какими бы левыми, лжемарксистскими, пацифистскими вывертами она ни украшалась.
И если нам возразят, как обычно возражают рутинеры II Интернационала: о! эти «русские» способы!! («Die russische Taktik» – Kap. VIII bei David[39]), – то мы ответим простой ссылкой на факты. В Берлине 30. X. 1915 несколько сот (einige Hundert) женщин демонстрировали перед Parteivorstand'jv и через свою депутацию заявили ему: «Die Verbreitung von unzensierten Flugblättern und Druckschriften und die Abhaltung nicht genehmigter Ver Sammlungen wäre bei dem großen Organisationsapparat heute leichter möglich als zur Zeit des Sozialistengesetzes. Es fehlt nicht an Mitteln und Wegen, sondern offensichtlich an dem Willen»[40] (курсив мой) («Berner Tagwacht» № 271).
Должно быть, эти берлинские работницы совращены «бакунистским» и «авантюристическим», «сектантским» (siehe Kolb & Ко[41]) и «безумным» манифестом ЦК русской партии от 1. XI.
Написано в конце 1915 г.
Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Пролетарская Революция» № 5
Печатается по рукописи
Оппортунизм и крах II Интернационала{65}
I
Действительно ли перестал существовать II Интернационал? Авторитетнейшие его представители, как Каутский и Вандервельде, упорно отрицают это. Ведь ничего не случилось, за исключением разрыва сношений; все обстоит благополучно; такова их точка зрения.
Для того, чтобы выяснить истину, обратимся к манифесту Базельского конгресса 1912 года, который относится как раз к данной империалистской мировой войне и был принят всеми социалистическими партиями мира. Следует отметить, что ни один социалист не посмеет в теории отрицать необходимость конкретно-исторической оценки каждой войны.
Теперь, когда война разразилась, ни откровенные оппортунисты, ни каутскианцы не решаются ни отрицать Базельский манифест, ни сопоставлять с его требованиями поведение социалистических партий во время войны. Почему? Да потому, что манифест полностью разоблачает и тех и других.
В нем нет ни единого словечка ни о защите отечества, ни о различии между наступательной и оборонительной войной, ни одного слова обо всем том, о чем теперь на всех перекрестках твердят миру оппортунисты и каутскианцы[42] Германии и четверного согласия. Манифест и не мог об этом говорить, так как то, что он говорит, абсолютно исключает всякое применение этих понятий. Он вполне конкретно указывает на ряд экономических и политических конфликтов, которые подготовляли эту войну в течение десятилетий, вполне выявились в 1912 г. и вызвали войну 1914 г. Манифест напоминает о русско-австрийском конфликте из-за «гегемонии на Балканах», о конфликте между Англией, Францией и Германией (между всеми этими странами!) из-за их «завоевательной политики в Малой Азии», об австро-итальянском конфликте из-за «стремления к владычеству» в Албании и т. д. Манифест определяет одним словом все эти конфликты, как конфликты на почве «капиталистического империализма». Таким образом, манифест совершенно ясно признает захватнический, империалистический, реакционный, рабовладельческий характер данной войны, т. е. тот характер, который превращает допустимость защиты отечества в теоретическую бессмыслицу и практическую нелепость. Идет борьба крупных акул из-за поглощения чужих «отечеств». Манифест делает неизбежные выводы из бесспорных исторических фактов: эта война не может быть «оправдана ни самомалейшим предлогом какого бы то ни было народного интереса»; она подготовляется «ради прибылей капиталистов, честолюбия династий». Было бы «преступлением», если бы рабочие «стали стрелять друг в друга». Так говорит манифест.
Эпоха капиталистического империализма является эпохой созревшего и перезревшего капитализма, стоящего накануне своего крушения, назревшего настолько, чтоб уступить место социализму. Период 1789–1871 гг. был эпохой прогрессивного капитализма, тогда когда в порядке дня истории стояло низвержение феодализма, абсолютизма, освобождение от чужеземного ига. На этой почве, и только на ней, была допустима «защита отечества», т. е. защита против угнетения. Это понятие можно было бы применить и теперь к войне против империалистических великих держав, но было бы абсурдом применять его к войне между империалистическими великими державами, к войне, в которой дело идет о том, кто сумеет больше разграбить Балканские страны, Малую Азию и т. д. Поэтому нечего удивляться, что «социалисты», признающие «защиту отечества» в этой данной войне, обходят Базельский манифест, как вор то место, где он украл. Ведь манифест доказывает, что они – социал-шовинисты, т. е. социалисты на словах, шовинисты на деле, которые помогают «своей» буржуазии грабить чужие страны, порабощать другие нации. Это и есть существенное в понятии «шовинизма», что защищают «свое» отечество даже тогда, когда его действия направлены к порабощению чужих отечеств.
Из признания войны войной за национальное освобождение вытекает одна тактика, из признания ее империалистской – другая. Манифест ясно указывает на эту другую тактику. Война «вызовет экономический и политический кризис», который надо «использовать»: не для смягчения кризиса, не для защиты отечества, а, наоборот, для «встряски» масс, для «ускорения падения господства капитала». Нельзя ускорить то, для чего еще не созрели исторические условия. Манифест признавал, что социальная революция возможна, что ее предпосылки созрели, что она придет именно в связи с войной: «господствующие классы» боятся «пролетарской революции», заявляет манифест, ссылаясь на пример Парижской Коммуны и революции 1905 г. в России, т. е. на примеры массовых стачек, гражданской войны. Это – ложь, когда утверждают, подобно Каутскому, что отношение социализма к этой войне не было выяснено. Вопрос этот не только обсуждался, но и был решен в Базеле, где была принята тактика революционно-пролетарской массовой борьбы.
Является возмутительным лицемерием, когда совершенно, или в наиболее существенных частях, обходят Базельский манифест и вместо того цитируют речи вождей или резолюции отдельных партий, которые, во-первых, говорились до Базеля, во-вторых, не были решениями партий всего мира, в-третьих, относились к различным возможным войнам, только не к этой данной войне. Суть дела в том, что эпоха национальных войн между европейскими большими державами сменилась эпохой империалистических войн между ними, и что Базельский манифест впервые должен был официально признать этот факт.
Ошибкой было бы думать, что Базельский манифест пустая декламация, казенная фраза, несерьезная угроза. Так хотели бы поставить вопрос те, кого этот манифест изобличает. Но это неправда. Манифест есть лишь результат большой пропагандистской работы всей эпохи II Интернационала, лишь сводка всего, что социалисты бросали в массы в сотнях тысяч своих речей, статей и воззваний на всех языках. Он только повторяет то, что писал, например, Жюль Гед в 1899 г., когда он бичевал министериализм социалистов на случай войны: он говорил о войне, вызванной «капиталистическими пиратами» («Engarde!», стр. 175); только то, что писал Каутский в 1909 г. в «Пути к власти», где он признавал окончание «мирной» эпохи и начало эпохи войн и революций. Представлять Базельский манифест в виде фразы или ошибки, это значит считать фразой или ошибкой всю социалистическую работу за последние 25 лет. Противоречие между манифестом и его неприменением потому так и невыносимо для оппортунистов и каутскианцев, что оно вскрывает глубочайшее противоречие в работе II Интернационала. Относительно «мирный» характер периода 1871 до 1914 г. давал питание оппортунизму сначала как настроению, потом как направлению и, наконец, как группе или слою рабочей бюрократии и мелкобуржуазных попутчиков. Эти элементы могли подчинять рабочее движение лишь таким образом, что они на словах признавали революционные цели и революционную тактику. Они могли завоевать доверие масс только путем клятвенных уверений, будто вся «мирная» работа является лишь подготовкой к пролетарской революции. Это противоречие было нарывом, который когда-нибудь должен был лопнуть, и он лопнул. Весь вопрос состоит в том, надо ли пытаться, как это делают Каутский и Ко, снова вогнать этот гной в организм во имя «единения» (с гноем) – или же, чтобы помочь полному оздоровлению организма рабочего движения, надо как можно скорее и тщательнее удалить этот гной, несмотря на временную острую боль, причиняемую этим процессом.
Предательство социализма со стороны тех, которые голосовали за военные кредиты, вступали в министерство и защищали идею обороны отечества в 1914–1915 гг., очевидно. Отрицать этот факт могут только лицемеры. Необходимо его объяснить.
II
Было бы нелепо рассматривать весь вопрос как вопрос о личностях. Какое это имеет касательство к оппортунизму, если такие люди, как Плеханов и Гед и т. д.? – спрашивал Каутский («Neue Zeit», 28 мая 1915 г.). Какое это имеет касательство к оппортунизму, если Каутский и т. д.? – отвечал Аксельрод от имени оппортунистов четверного согласия («Die Krise der Sozialdemokratie»[43], Цюрих, 1915 г., стр. 21). Все это комедия. Чтобы объяснить кризис всего движения, необходимо рассмотреть, во-первых, экономическое значение данной политики, во-вторых, идеи, лежащие в ее основании, и, в-третьих, ее связь с историей направлений в социализме.
В чем состоит экономическая сущность оборончества во время войны 1914–1915 гг.? Буржуазия всех крупных держав ведет войну в целях раздела и эксплуатации мира, в целях угнетения народов. Небольшому кругу рабочей бюрократии, рабочей аристократии и мелкобуржуазных попутчиков могут перепасть кое-какие крохи от крупных прибылей буржуазии. Классовая подоплека социал-шовинизма и оппортунизма одна и та же: союз небольшого слоя привилегированных рабочих со «своей» национальной буржуазией против масс рабочего класса, союз лакеев буржуазии с нею самой против эксплуатируемого ею класса.









