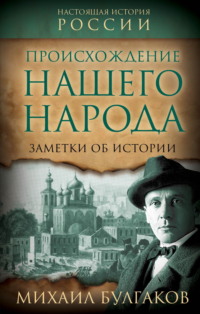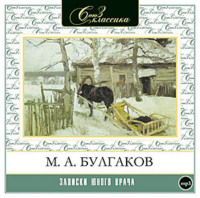Полная версия
Весь Булгаков
Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим[35] первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона[36], заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.
«О боги, боги, за что вы наказываете меня[37]?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы[38]… от нее нет средств, нет никакого спасения… попробую не двигать головой…»
На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:
– Подследственный из Галилеи[39]? К тетрарху дело посылали?
– Да, прокуратор, – ответил секретарь.
– Что же он?
– Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона[40] направил на ваше утверждение, – объяснил секретарь.
Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:
– Приведите обвиняемого.
И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.
Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски[41]:
– Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?
Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.
Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:
– Добрый человек! Поверь мне…
Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:
– Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. – И так же монотонно прибавил: – Кентуриона Крысобоя ко мне.
Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.
Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:
– Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.
И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.
Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.
Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона, да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.
Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.
Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились.
Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:
– Римского прокуратора называть – игемон[42]. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня, или ударить тебя?
Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:
– Я понял тебя. Не бей меня.
Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.
Прозвучал тусклый, больной голос:
– Имя?
– Мое? – торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.
Прокуратор сказал негромко:
– Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.
– Иешуа, – поспешно ответил арестант.
– Прозвище есть?
– Га-Ноцри[43].
– Откуда ты родом?
– Из города Гамалы, – ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.
– Кто ты по крови?
– Я точно не знаю, – живо ответил арестованный, – я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец…
– Где ты живешь постоянно?
– У меня нет постоянного жилища, – застенчиво ответил арестант, – я путешествую из города в город.
– Это можно выразить короче, одним словом – бродяга, – сказал прокуратор и спросил: – Родные есть?
– Нет никого. Я один в мире.
– Знаешь ли грамоту?
– Да.
– Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?
– Знаю. Греческий.
Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.
Пилат заговорил по-гречески:
– Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?
Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:
– Я, доб… – тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, – я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.
Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.
– Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, – говорил монотонно прокуратор, – а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.
– Эти добрые люди, – заговорил арестант и, торопливо прибавив: – игемон, – продолжал: – ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.
Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.
– Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, – произнес Пилат мягко и монотонно, – за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.
– Нет, нет, игемон, – весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, – ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.
– Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.
– Левий Матвей[44], – охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии[45], там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, – тут арестант усмехнулся, – я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово…
Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.
– …однако, послушав меня, он стал смягчаться, – продолжал Иешуа, – наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать…
Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:
– О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!
Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.
– А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, – объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: – И с тех пор он стал моим спутником.
Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гипподрома[46], лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.
Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке[47] стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.
– Левий Матвей? – хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.
– Да, Левий Матвей, – донесся до него высокий, мучающий его голос.
– А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?
Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:
– Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.
– Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина[48]?
И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде… Мой ум не служит мне больше…» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду…»
И вновь он услышал голос:
– Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.
Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.
Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.
Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустился в кресло.
Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.
– Ну вот, все и кончилось, – говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, – и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе[49]. Гроза начнется… – арестант повернулся, прищурился на солнце, – …позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.
Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.
– Беда в том, – продолжал никем не останавливаемый связанный, – что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, – и тут говорящий позволил себе улыбнуться.
Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.
Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:
– Развяжите ему руки.
Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.
– Сознайся, – тихо по-гречески спросил Пилат, – ты великий врач[50]?
– Нет, прокуратор, я не врач, – ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.
Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.
– Я не спросил тебя, – сказал Пилат, – ты, может быть, знаешь и латинский язык?
– Да, знаю, – ответил арестант.
Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:
– Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?
– Это очень просто, – ответил арестант по-латыни, – ты водил рукой по воздуху, – и арестант повторил жест Пилата, – как будто хотел погладить, и губы…
– Да, – сказал Пилат.
Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:
– Итак, ты врач?
– Нет, нет, – живо ответил арестант, – поверь мне, я не врач.
– Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить… или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?
– Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?
– О да, ты не похож на слабоумного, – тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, – так поклянись, что этого не было.
– Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? – спросил, очень оживившись, развязанный.
– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.
– Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? – спросил арестант. – Если это так, ты очень ошибаешься.
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
– Я могу перерезать этот волосок.
– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?
– Так, так, – улыбнувшись, сказал Пилат, – теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота[51] верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? – тут прокуратор указал на свиток пергамента.
Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.
– У меня и осла-то никакого нет, игемон, – сказал он. – Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.
– Не знаешь ли ты таких, – продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, – некоего Дисмаса, другого – Гестаса и третьего – Вар-раввана[52]?
– Этих добрых людей я не знаю, – ответил арестант.
– Правда?
– Правда.
– А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?
– Всех, – ответил арестант, – злых людей нет на свете[53].
– Впервые слышу об этом, – сказал Пилат, усмехнувшись, – но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, – обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: – В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?
– Нет, я своим умом дошел до этого.
– И ты проповедуешь это?
– Да.
– А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, – он – добрый?
– Да, – ответил арестант, – он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?
– Охотно могу сообщить это, – отозвался Пилат, – ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма[54], а командовал ею я, – тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев[55].
– Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я уверен, что он резко изменился бы.
– Я полагаю, – отозвался Пилат, – что мало радости ты доставил бы легату[56] легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.
В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.
В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой[57] на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора.
Оставалось это продиктовать секретарю.
Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.
– Всё о нем? – спросил Пилат у секретаря.
– Нет, к сожалению, – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.
– Что еще там? – спросил Пилат и нахмурился.
Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.
Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное – как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества…»
Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску[58].
Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.
– Слушай, Га-Ноцри, – заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, – ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре[59]? Отвечай! Говорил?.. Или… не… говорил? – Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.
– Правду говорить легко и приятно, – заметил арестант.
– Мне не нужно знать, – придушенным, злым голосом отозвался Пилат, – приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.
Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.
– Итак, – говорил он, – отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа[60], и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?
– Дело было так, – охотно начал рассказывать арестант, – позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил…
– Добрый человек? – спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.
– Очень добрый и любознательный человек, – подтвердил арестант, – он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно…
– Светильники зажег…[61] – сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.
– Да, – немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, – попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.
– И что же ты сказал? – спросил Пилат. – Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? – но в тоне Пилата была уже безнадежность.
– В числе прочего я говорил, – рассказывал арестант, – что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.
– Далее!
– Далее ничего не было, – сказал арестант, – тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.
Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.
– На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! – сорванный и больной голос Пилата разросся.
Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.
– И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! – Тут Пилат вскричал: – Вывести конвой с балкона! – И, повернувшись к секретарю, добавил: – Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.
Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными калигами[62], вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.
Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.
Первым заговорил арестант:
– Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
– Я думаю, – странно усмехнувшись, ответил прокуратор, – что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, – прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, – тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда – все они добрые люди?
– Да, – ответил арестант.
– И настанет царство истины?
– Настанет, игемон, – убежденно ответил Иешуа.
– Оно никогда не настанет! – вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: – Преступник! Преступник! Преступник!
А затем, понизив голос, он спросил:
– Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?
– Бог один, – ответил Иешуа, – в него я верю.
– Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем… – тут голос Пилата сел, – это не поможет. Жены нет? – почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.