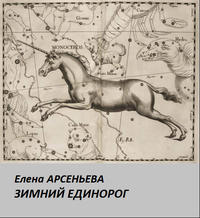Тайна мертвой царевны

Полная версия
Тайна мертвой царевны
Язык: Русский
Год издания: 2018
Добавлена:
Серия «Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
8
Уральская область – объединение Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских депутатов, существовавшее в Российской республике и в Советской России с мая 1917-го по январь 1919 г.
9
Из воспоминаний М. А. Медведева (Кудрина).
10
Здесь и далее стихотворение Л. Рельштаба «Serenade» дается в переводе Н. П. Огарева.
11
«Тихо молит моя песня тебя ночью; в тихую рощу ко мне приди, любимая!»(нем.). На стихи поэта Людвига Рельштаба написан романс Франца Шуберта «Ständchen» (или «Serenada»), но в России он более известен с поэтическим переводом Николая Огарева «Ночная серенада»: «Песнь моя летит с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкою стопою Ты приди, друг мой!»
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу