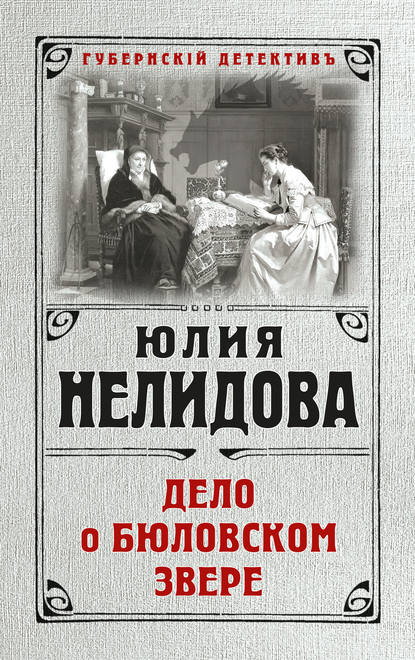Полная версия
Дело о сорока разбойниках
– В Барсакельмесской пещере, посреди Аральского моря, – ответил услужливый голос. «Моря, моря, моря…» – повторило эхо – точно некто в мегафон Эдисона говорил.
– Кто вы?
– А я – Барсакельмесская пери.
«Пери, пери, пери…» – Иноземцев изо всех сил принялся крутиться, стараясь понять, откуда идет голос, откуда льется свет и где спрятался человек с рупором. Но всюду были только грозные копья сталактитов, так недобро напоминающие решетки тюрьмы. Он сжал рукой пылающую болью голову.
– Не может же так сильно напечь, что… – вырвалось у доктора в отчаянии.
– Смотри, сколько здесь золота! Бери, сколько хочешь, – вновь заговорила таинственная хозяйка пещеры, – и уходи. Уходи немедля и никогда сюда не возвращайся.
«Возвращайся, вращайся, щайся…»
– Я бы рад уйти… Да и не нужно мне ничего… А нет, вспомнил, мне в Ташкент нужно.
– В Ташкент нельзя, – голос дрогнул тревожной ноткой. – Возвращайся откуда пришел.
– Как – нельзя?.. Господи, с кем же я говорю? Почему нельзя? Бред какой-то… – обессилев от изумления, Иван Несторович присел на соляной пол пещеры. Голову уронил на руку, вновь свело желудок – сейчас опять начнется приступ рвоты. Крепко же его огрели басмачи по затылку. Кажется, сотрясение имеется…
– А где Юлбарс? Где этот лохматый тигр? Где шайка? И были ли они? Или уже лихорадка завладела моей головой?.. И почему мне понятна твоя речь? Ведь басмачи говорили по-тюркски. Я даже теперь знаю значение нескольких слов… А ты, пери, по-русски говоришь. Как-то это странно все. Разве пери говорят… – Иноземцев не заметил, как, бормоча, улегся, прижавшись горячей щекой к холодной скользкой соли, дотянулся рукой до края озера – ледяная вода тотчас остудила дрожь в теле. – …по-русски. И все же, кто ты? Покажись!.. Не могу поверить, что все это со мной происходит на самом деле.
Вдруг неслышная белая тень скользнула за спиной, присела рядом, коснувшись чем-то мягким лба.
Он обернулся – закутанная в шелковые невесомые покрывала, склонившись, на коленях стояла подле него сама барсакельмесская пери. Легким движением рук с нанизанными на запястья браслетами откинула с лица шелка. Обнаружив, к изумлению доктора, под ними – ласковое, улыбающееся лицо Ульянушки, обрамленное тесным восточным украшением из серебра: множество сверкающих монеток и камушек спускалось на лоб, щеки, перехваченных у подбородка большим желтым янтарем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Читайте об этом в романе Ю. Нелидовой «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
2
Читайте об этом в романах Ю. Нелидовой «Дело о Бюловском звере», «Тайна железной дамы» и «Секрет индийского медиума» (Издательство «Эксмо»).
3
Пери – добрый дух в образе прекрасной крылатой женщины(перс.).
4
Дивы – чудовища(перс.)
5
Симург – волшебная птица(перс.)
6
Нет, нельзя. (Здесь и далее перевод с узбекского.)
7
Ты бестолочь! Ишак! Зачем? Я же сказал, не трогать пассажира.
8
Извините, пожалуйста.
9
Юлбарс, нет! Нет! Нельзя! Прочь!
10
Трус… Духу не хватает? Какой ты доктор? Ты не доктор!
11
Не хочешь, тогда я сам.
12
Горе мое, Юлбарс! Уйди! Это не еда!