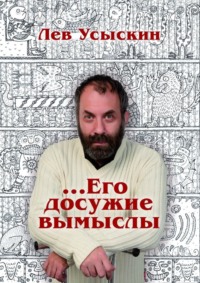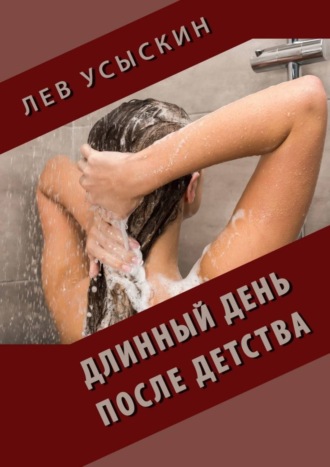
Полная версия
Длинный день после детства
Взяв свое какао, Борька обычно садился за самый крайний из пяти или шести пустых столиков – ближайший к широкому, почти во всю стену, окну. О чем размышлялось, глядя на огни ночной улицы – на плутоватые фары проезжающих автомобилей, светящиеся недра троллейбусов или неутомимую игру светофора, – едва ли мог сказать даже он сам. Во всяком случае, из времени Борька выпадал при этом капитально – зачастую пробудиться к действительности удавалось лишь с помощью той же буфетчицы, уже закрывшей, незаметно для Борьки, буфет и успевшей облачиться в темно-фиолетовое пальто с меховым воротником: «Эй, малыш… я уже домой ухожу… все… ты слышишь меня?.. давай, допивай скорее свое какао… тебя, небось, тоже дома мама заждалась, так ведь?.. где, думает, мой малыш, куда запропастился?.. а он здесь – в стакане какао утонул… давай-ка, давай побыстрее… можешь оставить стакан здесь, я уберу завтра…»
…Нарастающее многоголосье просочилось в душевую, – судя по всему, тренировка завершилась. Сейчас все построятся в ряд позади стартовых тумбочек, затем перед дрожащей и мокрой шеренгой появится Кирс со своим журналом – минуту он будет разглядывать что-то в этом журнале, потом закроет его нарочито шумным хлопком, обведет всех неспешным взглядом, и, сказав пару слов кому-нибудь персонально, объявит, что тренировка закончена: «До встречи в пятницу, в семнадцать двадцать!» – «До-сви-дань-е-и-горь-пет-ро-вич!!» – рявкнет ему ответом вразнобой, и мгновение спустя четыре десятка босых ног зашлепают по полу душевой…
Опережая их, Борька подхватил пакет со своими пожитками (на секунду звякнули давешние носовские гривенники) и, закинув его почему-то за спину, рванул на лестницу – тут же в лицо ему ударило холодом и сквозняком, тяжелая дверь на пружине уступила, лишь когда мальчик пихнул ее плечом, и, пропустив Борьку нехотя, с усилием вернулась в исходное положение. Теперь в мужской душевой никого не было. Там, где только что стоял Борька, последняя, угасающая пригоршня воды низверглась из распылителя и, влекомая земным притяжением, пролетев два с половиной метра, достигла пола. Скатившись в стоковый желобок, она миновала соседнюю кабинку и, сделав два круга вальса над черной крышкой канализационного выпуска, исчезла, канув в сонмище просверленных рядами отверстий. Исчезла навсегда…
29.06.03 – 12.10.03Девяносто третий год
Саше Иличевскому, каспийскому человеку
1.
Булочная на углу, кажется, была всегда – с открытыми для покупателей фанерными стеллажами во втором от входа зале, исправно наполняемыми с обратной стороны чьей-то невидимой рукой, с блестящей металлической трубой, укрепленной на металлических же стойках и образующей тем самым направляющую для очереди. Направляющую, с железной обязательностью приводившую покупателя к башнеобразной кассе, где под стрекот агрегата «ОКА» восседала необъятных размеров женщина в синем фартуке…
В первом же зале булочной было устроено некоторое подобие кафетерия – по фаянсовым стаканчикам разливали бежевый кофе с молоком, каковой предлагалось закусывать чем-нибудь рассыпчатым, песочным и лишь изредка – сдобным. Стульев, само собой, не полагалось – стояло три или четыре круглых одноногих столика примерно в мой тогдашний рост, даже выше, – однако не возбранялось и присесть на низкий подоконник оконной ниши, той, что смотрела на проспект, а не в переулок. И можно было съесть рогалик либо песочное колечко, глядя, как усталые озабоченные люди спешат себе в метро или на пригородные электрички… Зимой сидеть там, кстати, было приятно вдвойне: благодаря батарее, размещенной прямо под доской подоконника и сквозь специально просверленные в этой доске отверстия ласкавшей ягодицы потоками теплого воздуха.
Впрочем, указанной благодати – как и всякой другой – однажды пришел конец: в некий навсегда скорбный день «видовой» подоконник облюбовала бородатая бездомная старуха – и с той поры едва ли не поселилась на нем со своими вонючими сумками, мыча что-то нечленораздельное и выклянчивая у превозмогающих отвращение покупателей хлебные объедки либо мелочь.
Помню еще, что вечерами, после закрытия этой булочной, хлеб продавали всем желающим прямо через ее разгрузочное окно – буханки падали оттуда в руки теплыми, мягкими и сочащимися до того вкусным запахом, что я не в силах был донести их до дому в неприкосновенной цельности…
Прямо напротив булочной, через переулок, была сосисочная, где давали разливное пиво, а за ней, уже на проспекте, в подвальном этаже открылся тогда продовольственный магазин, казавшийся нам шикарным: гирлянды разноцветных лампочек творили новогоднюю сказку ежедневно – подсвечивая уложенные рядами заграничные консервные банки всевозможных форм, размеров и оттенков, а также мясные копчености, смотревшие сквозь вакуум упаковки нитритно-неестественной розовой свежестью. Магазин был длинным и узким – настоящая подвальная кишка, в дальнем конце которой, тем не менее, также удалось разместить кафетерий. Вернее, рюмочную – рюмочную, так сказать, нового, пореформенного типа: барабанила музыка из маленькой китайской магнитолы, на вертеле жарилась курочка или колбаса, их по мере готовности кромсали на части, сбрызгивали водянистым кетчупом из похожей на клизму пластмассовой бутылки и раскладывали на бумажные тарелочки. После чего закусывали этим полустакан какой-нибудь водки «Ельцин», «Распутин» или «McKormick». Или неведомо-польский ликер, вкусом, как говорят, напоминавший скипидар, а своим анилиновым цветом – те же новогодние лампочки.
Еще был продуктовый магазинчик – в доме восемь, в подвальчике, у входа в который, ожидая всегдашних мясных обрезков, тусовались две или три бездомные дворняжки; был ремонт пишущих машинок в доме семь на углу и другой еще магазин – для богатых, под светящейся вывеской «Наутилус», – уже на Гороховой, туда приезжали на иностранных машинах гладко зачесанные люди в длинных синих пальто – эта точка разорилась первой, кстати говоря.
И всего остального тоже нет сейчас уже – неизменной осталась лишь темно-зеленая хоккейная коробка, притиснутая к четырем уродливым тополям, облупленные бани напротив да сами дома как таковые: рукотворные скалы и утесы, прежде нас построенные, но имеющие все шансы нас здесь перестоять.
2.
…Той осенью появилась новая девочка в нашем дворе – Гульнара. Кокетка-память едва ли поможет мне теперь восстановить сколько-нибудь внятно черты ее внешности: не цепкая на лица, эта дама, как я не раз убеждался, предпочитает слова и жесты, уподобляясь, по всей видимости, какому-то диковинному телевизору, утопленному в серый космос коры головного мозга. Есть, правда, еще и запахи – эти, напротив, остаются навсегда, всплывая потом, годы спустя, по самому мелкому поводу и в самых неожиданных местах. Таких, например, как ультрамодная ориентальная лавка в старой Праге, куда я зашел на минутку, спасаясь от июльского дождя, и где мне тотчас же ударило в нос именно тем ароматом, что царствовал некогда на кухне гульнариных родителей…
Но обо всем по порядку: в тот осенний день никакой кухни еще не было и в помине. Собственно, и никакого знакомства в тот день тоже не было – просто Гульнара стояла и смотрела молча, как мы с ребятами пинаем мячик.
3.
Нас было четверо или пятеро даже – я, Славик Зырянов, который еще только год спустя сделается моим одноклассником, Вовчик, Стас Акимушкин, кто-то еще, кажется. Мы стояли возле той самой хоккейной коробки справа, если смотреть из переулка. Внутри коробки с десяток полуголых и потных парней, съехавшихся на видавших виды «восьмерках» и «пятерках», с остервенением играли в футбол, оглашая округу звонким и задорным матом. Мы же, подсознательно стремясь от них не отстать, стояли, как я уже сказал, рядом и, пиная найденный на помойке скособоченный и пропоротый в двух местах насквозь мячик, о чем-то разговаривали, выжидая, когда футболисты в запальчивости перебросят свой через ограждающую коробку проволочную сетку и, обратив наконец на нас внимание, попросят подать его им обратно.
Стало быть, мы болтали тогда о чем-то, что сейчас уже забыто навеки. Всего вернее, речь тогда держал Стас – как самый старший. Ему шел тринадцатый, тогда как нам всем было едва по десяти. Роль предводителя малышни выдавала в Стасе некое неблагополучие – физическое ли, социальное ли, – вынуждавшее избегать общения со сверстниками. Так оно, разумеется, и было, – о чем с достоверностью свидетельствовали его похабные и жестокие россказни, однако для нас, понятно, и они служили источником сведений о мире – источником щедрым и (слава богу!) единственным в своем роде.
Итак, был вечер, сумерки, мы валяли дурака возле хоккейной коробки, вполглаза наблюдая за игрой и вполглаза же – за погрузочно-разгрузочными работами аккурат напротив нас – через переулок. Собственно, ничего такого уж интересного возле подъезда дома тринадцать не происходило – стояла грузовая машина-фургон, из ее распахнутого чрева трое гориллоподобных грузчиков попеременно вытаскивали какие-то тюки, мебель, ковры, скатанные в рулоны. Вытаскивали и, разумеется, тут же исчезали вместе с ношей в таком же распахнутом чреве подъезда.
Как и положено, хозяева за выгрузкой своих вещей наблюдали – рядом с машиной суетилась немолодая уже женщина в черном кожаном пальто и с повязанной ярким платком головою. А возле нее – будто большая кукла или манекен витрины магазина игрушек – неподвижно стояла черноволосая девочка моего примерно возраста, одетая несколько более плотно, чем требовал этот вполне еще теплый октябрьский вечер. Стоя спиной к матери и не обращая никакого внимания на перемещения диванов с чемоданами, она важно держала обе руки в кармашках обшитой галунами курточки и не отрываясь смотрела на нас, как мы валяем дурака с нашим помоечным мячиком.
4.
Черножопые подселяются – магия непонятного слова, некогда занозой вошедшего в сознание, не сотрется, как видно, до гроба – сколь ни разрасталось бы потом понимание вещей и обстоятельств. Какие черножопые? Черножопые кто? Что значит «подселяются»? Подселяются куда? Почему? Зачем? – все эти вопросы, порожденные фразой, сплюнутой Стасом сквозь зубы, и сегодня отдаются гулким эхом почти так же, как тогда, в тот неприметный октябрьский вечер. Сейчас я понимаю, что попал таким образом в двойную западню: заурядное непонимание контекста оплодотворилось еще и когнитивным контрастом – уничижительный эпитет никак не хотел сочетаться с этой круглолицей куколкой, такой игрушечной и ладной. Видимо, я это с ходу почувствовал, но, почувствовав, конечно же, не осознал. Точнее говоря – не обратил на подобное внимания.
И все же – запомнил. Возможно, из-за нечаяной экзистенциальной рифмы, случившейся в тот же день. В самом деле, вернувшись затем домой, я, как и следовало, угодил на семейный ужин: мать едва не с порога погнала меня в ванную мыть руки – и вот уже мы сидим втроем на кухне над своими тарелками. К обычным усталым беседам, медленным и немногословным, расслабленным просто по факту окончившегося так или иначе дня, тот веселенький год подмешивал исподтишка еще и некое такое нервное, словно бы металлическое подзвякивание – диковинную смесь затаенной обиды с чувством неведомой, но неизбывной опасности, от которого взрослым было не освободиться никак – даже в собственном доме в преддверии ночи.
Помню, отец, пришедший с работы в тот раз прежде матери, что-то долго и путано рассказывал про объявленные приватизационные льготы, отдающие их автобазу в полной мере на откуп начальству, развившему по этому случаю невиданную прежде активность. Кажется, мать в связи с этим спросила что-то язвительное про какие-то ваучеры – отец поспешил ей ответить, не особо содержательно, но тоже саркастично и витиевато, после чего настал ее черед сообщать о событиях дня.
– Соседи у нас новые теперь, – произнесла она с акцентом на слове «соседи», словно бы выкладывая аргумент в давнем каком-то споре.
– У нас? – не подымая глаз, отец подцепил вилкой жареный кабачок, – в нашем доме?
– В тринадцатом. Видела, как от метро шла. Барахло выгружали.
– И кто же? – прожевав, отец, наконец, поднял голову.
– Черт их знает. Кавказцы какие-то. В том подъезде, где… помнишь, там еще еврейская семья жила большая. Он – директор книготорга. Уехали.
Отец кивнул.
– Одни черные уезжают, другие им на смену, – мать не замедлила подвести мораль, – без них никак, похоже…
– Какие же евреи – черные? – отец тем временем освободил рот, – они не черные, они… (он на мгновение задумался) они хитрые, хитрожопые…
– Угу, – немедленно согласилась мать, – хитрожопые… на смену хитрожопым пришли черножопые!..
И затем хихикнула, довольная собственной остротой.
Так я вновь услышал это озадачившее меня слово – второй раз за считаные часы. Услышал и вновь не посмел спросить объяснения, – полагая, вероятнее всего, что получу его позже, не прикладывая специальных усилий. Как это и происходит почти всегда с незнакомыми, взрослыми словами.
Так оно, в сущности, и случилось.
5.
Уже вскоре мы познакомились. Не один я, разумеется, а вся наша компания: как водится у детей, без лишних церемоний и каких-либо никчемных прелюдий. Просто однажды, в обычный школьный будень, ближе к вечеру, когда уже начинало смеркаться, девочка-куколка, одетая в ту же самую курточку с галунами, вышла из своего подъезда, остановившись ненадолго, по давешнему обыкновению держа руки в карманах, обвела взглядом улицу и, заметив нашу группку (в том же составе и примерно на том же месте, что и в прошлый раз), довольно решительно направилась к хоккейной коробке.
– Меня зовут Гуля… можно мне поиграть с вами? – сказала она без обиняков, – мы с мамой и папой приехали из Баку… а теперь живем вон там, в зеленом доме…
Говорила она, как я заметил, вполне чисто, но все же как-то… как-то не так – окружая произносимые слова совершенно новым для нас, непривычным орнаментом пауз и тембров, слишком рельефным и эмоциональным, короче, выдававшим приезжего с неопровержимостью аэропортовой бирки на чемодане.
Меж тем, она вынула из карманов руки и протянула нам, очевидно, в подтверждение своих добрых намерений, две пригоршни пестрых кубиков, опознать которые всякий из нас смог без труда. Назывались они «Лав Из» и представляли собой изготовленную в Турции дешевую тинэйджерскую жвачку, цветастую и приторную. Вещь не так чтобы очень уж редкостную или категорически недоступную, но все же ценимую в нашем детском обороте, – во всяком случае, ценимую настолько, что впечатлял сам вид такого количества жвачек одномоментно, причем не в ларьке или стеклянной магазинной витрине, а, что называется, «на свободе», в руках нашего сверстника…
– Берите…
Все наперебой потянулись за гостинцами, принимая тем самым девочку в свой круг, – и лишь я краем глаза заметил, как Стас Акимушкин, не упустивший, по всему, шанса придумать для новичка что-то обидное и собравшийся было выдать это свое изобретение «на-гора», торопливо проглотил слюну, осознав, что удобный для этого миг, увы, упущен безвозвратно: нам теперь было не до его шуток. Впрочем, смирившись с неудачей, Стасик не замедлил взять реванш в виде причитавшихся ему нескольких завернутых в гладкую бумажку кубиков. Он аккуратно развернул один из них с торца, дурачась, положил на ладонь, после чего поднес эту ладонь ко рту, одними губами осторожно отделив резинку от упаковки, – так же точно, как и все мы, опасаясь повредить помещенный между фантиком и резинкой вкладыш.
Собственно, эти вкладыши и были основой привлекательности означенного детского сокровища. Сложенные пополам тонкие бумажки с двумя смежными сердечками в уголке, темноволосым мальчиком и рыжей девочкой, а также двуязычной надписью, объяснявшей, собственно, что именно love is. Все это – во множестве вариантов.
В принципе, их можно было бы даже использовать, практикуясь в английском, но вот беда – английский оригинал и его русский перевод совпадали отнюдь не всегда. Да мы и не знали тогда английского, чего там, – но вкладыши все равно любили, увлеченно коллекционировали, обменивались ими ради полноты наших собраний.
В общем, вливание Гульнары в нашу маленькую дворовую стаю прошло в тот день «на ура», можно сказать, само собой – и лишь потом, по прошествии времени, я узнал невзначай, что сама идея угостить тогда всех нас жвачкой принадлежала Гулиной матери, не считавшей правильным пускать на самотек социализацию дочери и все это время незаметно наблюдавшей за нами с высоты своего четвертого этажа.
Помню, мы еще какое-то время топтались у коробки, затем вдруг снялись с места и, нырнув в одну из подворотен, вывалились всей компанией с другой ее стороны – прямо на Лазаретный переулок. (По пути Стас все-таки не сдержался – и, подойдя сзади словно бы невзначай, запихал Гульнаре за шиворот ставший ненужным фантик. И тут же, обогнав ее, рванул вперед, словно бы ничего не случилось вовсе.)
Так вот, в Лазаретном было наше собственное государство: простиравшееся от осыпающегося окаменевшей известкой фасада опустевшего, осужденного на капитальный ремонт Военно-медицинского музея и до самых задворок овощного лабаза, вписанного, в свою очередь, в ряд выстроившихся вдоль Загородного проспекта киосков. (Пройдет несколько лет, и на месте этого овощного возведут второй в городе Макдональдс – бело-серый и колончатый, в нехарактерном для подобного заведения ампирном стиле.)
Удивительно, но здесь, в какой-то сотне метров от вокзала, с его толпами возбужденных белорусов, только что вывалившихся из вонючих общих вагонов, чтобы продать на питерских улицах несколько палок гомельской колбасы, действительно было пустынно: редкие прохожие торопливо проскакивали транзитом, направляясь в ту самую подворотню; иногда какие-то сомнительные фигуры ненадолго сбивались в группки по два-три человека, тревожно оглядываясь, что-то передавали друг другу, торопливо отсчитывая банкноты, и тут же рассеивались, вписавшись еще через миг в привокзальную толчею. Или кто-то, свернув с проспекта, уединялся отлить возле одной из старых, покосившихся лип – слава богу, тоже нечасто…
Короче говоря, нам там никто никогда не мешал – это было неприкосновенное пространство нашего детства, секретное и сакральное, – и мне порою кажется, что каждому человеку везде и всегда судьба так или иначе, но припасает в соответствующем возрасте нечто подобное: завязывается узлом, делает невозможное, но припасает, вопреки любым сложностям и ограничивающим жизнь обстоятельствам. И лишь от нас самих зависит то количество радости и тот опыт, который мы обретаем в итоге благодаря подобной опеке, – выбросим ли мы с годами все это на свалку памяти или же, напротив, поместим в сокровенный ее ковчег. Ну, да я отвлекся…
Сейчас уже не вспомнить, само собой, что именно мы там делали, в этот день знакомства – отложилась лишь следующая странная сцена: Гульнара стоит возле грязно-розовой стены музея и, пользуясь осколком штукатурки как мелком, рисует на ней какие-то горы, море с корабликом, а потом пишет странное слово «Сумгаит». Зачем? Ради какой нашей игры? Бог знает…
6.
Потом я узнал, что ее отдали в 306 школу, ту, что на углу Верейской и Клинского, – «английскую», недалеко от моей «обыкновенной», 267. Кажется, во втором или третьем классе нас даже водили туда на какой-то утренник или, может, спортивный праздник…
Выяснил я это, что называется, опытным путем – то бишь, встретив Гульнару по пути домой, на Загородном. Синхронно возвращаясь после уроков, мы почти одновременно очутились и на проспекте, влившись в него каждый со своей улицы и оказавшись, таким образом, метрах в семидесяти друг от друга. Узнав девочку, я быстро нагнал ее, и мы пошли вместе – на перекрестке с Введенским каналом, терпеливо дождавшись разрешающего зеленого сигнала, перебежали на другую сторону и, разговаривая, почему-то направились к Фонтанке вдоль глухого бело-желтого забора, из единственных ворот которого как раз перед нами выехало что-то защитного цвета с брезентовым верхом и черным минобороновским номером.
– А тут у нас госпиталь… – поведал я спутнице тоном записного экскурсовода, – военная медицинская академия… здесь всех солдат лечат…
– Я знаю, – девочка кивнула в ответ. И неожиданно добавила:
– Мой папа ходил сюда… к врачу.
– Но это ведь только для военных больница? – удивился я, до того момента полагавший военных сродни воробьям или синичкам, то есть хоть и живущими у всех на виду, но никаким боком с нами, обычными людьми, не соприкасающимися.
– Ну да, для военных, – согласилась Гульнара, – мой папа и есть военный… он – генерал…
Нельзя сказать, что услышанное как-то особенно меня поразило. Ну, генерал – и генерал: возможно, там у них, в Баку, все папы девочек – генералы. Все же я не отказал себе вообразить этого человека таким, каким он, по моим понятиям, должен был быть: высоким, толстым и вместе с тем широкоплечим, почему-то непременно лысым, в туго сидящем кителе, фуражке с высокой изогнутой тульей и разлапистой кокардой. Увешанным немыслимым количеством всяческих эмалевых и золотистых побрякушек: галунов, пуговиц в несколько рядов, медалей и орденских планок, петлиц, шевронов, аксельбантов… В общем, полного антипода тому, с кем мне пришлось познакомиться всего лишь несколько дней спустя. В жизни отец Гульнары оказался среднего роста, даже скорее мелковатым и при этом чуть сутулым, узкогрудым, коротко подстриженным мужчиной с седеющими усами и бакенбардами, одетым в серый, ничем не примечательный, но явно не новый пиджак, под которым виднелась бежевая шерстяная жилетка. Здороваясь, он протянул мне узкую в кости старчески-сухую ладонь и очень несильно, едва ли не символически, пожал мою. При этом генерал улыбнулся какой-то понимающей и вместе с тем виноватой улыбкой, словно бы слегка извиняясь. Как бы досадуя на то, что не имеет сейчас возможности обсуждать с нами детские наши проблемы, однако пребывает при этом все же в твердом убеждении, что и сам я способен справиться с ними наилучшим образом к удовольствию и выгоде его дочери. Конечно, это была восточная риторическая маска, что же еще – но даже сквозь нее я ощутил тогда какой-то непривычный, прежде ни разу не испытанный мною и, в общем, оказавшийся приятным тон: подумать только, этот незнакомый человек смотрел на меня в некотором смысле, как на взрослого мужчину, – а не так, как обычно родители и школьные учителя!
Но все это случилось потом, три или четыре дня спустя.
7.
В тот день, сделав кое-как уроки и не найдя, чем заняться дома, я по обыкновению сбежал на улицу. Там, однако, меня постигла неудача: обойдя все укромные места от Гороховой и до Введенского канала, заглянув затем в Лазаретный, я так и не встретил никого из нашей компании – все словно бы сговорились и свалили куда-то удивительным образом. Либо наоборот, сидели по домам – даже Стас Акимушкин, с его вечно пьяной мамашей.
Одному гулять не хотелось. Я уже было решил возвращаться в родительские пенаты, как вдруг заметил Гульнару, по всему, увидавшую меня первой и старательно махавшую мне рукой от самой двери своего подъезда.
Выяснилось, что мать послала ее за хлебом, но как раз булочная на углу была в тот день закрыта по какой-то неведомой никому причине. Другого подобного заведения, расположенного поблизости, девочка еще не знала и, по всей видимости, растерялась не на шутку – интонации, в которых она это мне рассказывала, не давали шанса отделаться одним лишь вербальным советом. Впрочем, я, кажется, и рад был развлечься. В общем, мы пошли вместе – в магазинчик на Гороховой, рядом со сберкассой, тот, что почти у самого областного военкомата. Хлеб в нем, как я помню, был удивительно черствым всегда – в любой день и час, словно бы его специально выдерживали, прежде чем выложить на полки. Как им удавалось добиться такого результата – одному богу ведомо.
Все же Гуля набрала несколько буханок, запихала их в какую-то странную матерчатую сумку с металлическим ободом, и мы двинулись обратно. И вот тут, кажется, я поймал в себе то странное ощущение… которое и вправду не знаю, как выразить… даже сейчас! В общем, я почувствовал, что мне действительно приятно идти вот так, рядом с этой игрушечной девочкой, почти куколкой, хотя бы даже и умеющей говорить и шевелиться. Что я могу так шагать и шагать с ней долго-долго по этим грязным улицам и никогда не устану, и не надоест мне это нипочем… Какие чувства при этом испытывала сама Гульнара, сегодня и вовсе не знаю, – тогда же я об этом, понятно, меньше всего задумывался.
Что-то ведь испытывала наверняка – потому как не особо спешила домой. Мы перебежали назад Гороховую, какое-то время проторчали перед витринами «Наутилуса», бог знает, что там высматривая, затем на еще не застроенном тогда пятачке перед угловым домом заняли покосившуюся, с ножкой, наполовину просевшей в земные недра, скамейку, вытащили из Гулиной сумки верхнюю буханку и, отломив по нескромной краюхе, начали есть, как ни в чем не бывало. Дорого бы я нынче дал, чтобы припомнить содержание тогдашних наших бесед, – но, как известно, произнесенные слова всегда ускользают бесследно, рассеиваясь в пространстве, – и разве лишь достигнув когда-нибудь внутренней скорлупы Вселенной, гулким эхом отражаются затем в обратный путь, спеша вновь к нашим ушам, – да только нас уже не застанут…