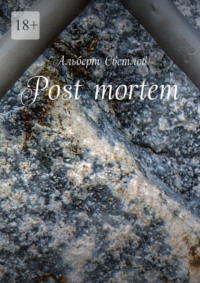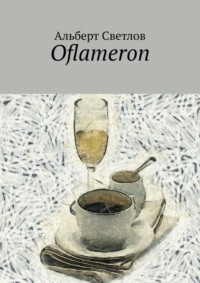Полная версия
Целуя девушек в снегу
«Интересные дела! Неужели на нашем факультете станет учиться? А вдруг, заочница какая?»
Едва Туров, еле дыша прислонился к стоящему у шкафа с документами серому сейфу с многочисленными мелкими царапинами вокруг замочной скважины, а я застыл на пороге, девушки прекратили ворковать и обратили взоры на вошедших. Длинная равнодушно мазнула глазами по Турову, и удивлённо воззрилась на меня. Я почувствовал себя неловко под её пристальным взглядом, но молчание прервал Паша:
– Ахмет Мансурович у себя? – спросил он, указывая на дверь, ведущую в кабинет декана.
Ахмет Мансурович Валиев находился в должности декана первый год. Ранее факультетом несколько лет руководил Семячков Григорий Петрович, возглавивший в августе прошлого года кафедру методики преподавания. Спокойный, простой и не любящий суету, Валиев не слишком подходил на должность декана, и на первом этапе ему было особенно трудно вживаться в новую для него роль. Он не умел красиво говорить, волнуясь, повествование выстраивал коряво, и еле добирался до её завершения, запинаясь о многочисленные «Э—э—э, м—м—м, так сказать, значит». Лекции Ахмет Мансурович читал негромким ровным усыпляющим голосом, изредка повышая интонацию, чтобы повторить какой—нибудь новый термин. Если декан, вычитая материал по отечественной истории, пытался шутить, то глаза его превращались в узенькие щёлки, а взгляд становился хитрым. К сожалению, шутки пропадали втуне, мало кто их понимал, лишь девушки похихикивали из вежливости. На студентов, приходящих к нему решить проблемный вопрос, он смотрел печальными глазами усталого сенбернара, и внимательно выслушивая, изредка подкручивал седоватые прокуренные усы. Однако, Валиев всегда старался вникнуть в проблемы студентов, а зачёты многим ставил не зверствуя, по результатам посещений лекций и ответов на семинарах.
– Да, у себя. Но он сейчас занят, со Ступиным беседует.
Тут прозвенел звонок на перемену. Дверь кабинета Валиева отворилась, и прихрамывая, оттуда вышел невысокий лысоватый преподаватель истории отечества Александр Владимирович Ступин. Вслед за ним появился и сам Валиев.
– Света, ко мне есть кто—нибудь?
Мы поздоровались, Ступин, уходя, пошутил по поводу очереди, будто за дефицитом, а Света произнесла:
– Да, Ахмет Мансурович. Девушка подошла по поводу поступления…
Девица, о которой шла речь, поднялась навстречу декану, но в разговор бесцеремонно влез Туров:
– А можно я вначале? Я только спросить хочу. Две минутки и всё.
Неодобрительно взглянув на Пашу, Валиев сказал:
– Вообще—то, лучше бы девушку пропустили…
– А у нас семинар через пять минут…
– Возьмите, Ахмет Мансурович, документы Екатерины Александровны.
Секретарь передала Валиеву исписанные листки. Он вздохнул, кивнул и взял их:
– Ну, пойдёмте, Павел… – и обратился ко мне, – вы тоже?
– Нет—нет, я здесь подожду.
И Паша с Валиевым скрылись в глубине кабинета, а я остался стоять возле шкафа, подпирая его плечом.
Неожиданно в секретарскую шумно ввалился Быков, бросив Свете: «Привет!»
– А, вот ты где спрятался! Я тебя ищу везде… Пойдём, я половину не разобрал в твоих каракулях.
Как раз в это время материализовался повесивший голову Туров, а из—застенки прозвучал голос декана:
– Екатерина Александровна, заходите, пожалуйста!
Девушка встала и прошла к Валиеву, плотно затворив за собой дверь кабинета.
Быков одобрительно проводил её взглядом и обратился к секретарше:
– Кто такая? Заочница?
– Валентин, а тебе какая разница? – улыбаясь, спросила Света.
– Ну… я просто… интересно же… – засмущался Быков.
– Поступать будет на факультет. В прошлом году два балла недобрала. Попробует в этом.
– Пойдём уже, а то не успеем дописать, – толкнул я в бок Валю.
– Ладно, я попозже загляну, – кивнул Быков Свете.
И обратился к Турову:
– О! И ты тут! И зачем же?
– Тебя не спросил. Надо, не сомневайся, но не твоего бычьего ума дело.
Туров хамил, не будучи склонным к светской беседе.
– Чего злой, аки василиск? – обратился я к нему, едва мы оказались в коридоре. – Что Ахмет сказал?
– Сказал, надо к физкультурнику обратиться сегодня же, и взять задание.
– Так, сходи. Делов—то!
Торопящийся Быков от нетерпения рыл копытом покрытие пола и успокоился не раньше, чем я, расположившись за партой в кабинете, стал проговаривать ему слова из текста, с которыми он не справился.
Чуть позднее, когда началось занятие и слово взял Парамыгин, отвечая на поставленный преподавателем вопрос, я, машинально рассматривая Савченко, провокационно явившуюся в институт, явно, без бюстгальтера, прокручивал в памяти разговор в канцелярии.
«Значит, к нам поступать будет эта Екатерина Александровна. Надо запомнить и потом разузнать, поступила или нет»
Мне почему—то хотелось увидеть ту, о ком я тогда думал, ещё раз. А лучше – не раз. Мне и не мечталось, что однажды мы с Катей станем хорошими знакомыми, и у меня появится новый объект обожания, позволяющий временами надеяться на большее.
2Б. Целующие любимых да обретут вечность…
О, не лети так жизнь!
Мне важен и пустяк.
Л. Филатов.
Перебирая в поисках записной книжки двадцатилетней давности старые бумаги в потрескавшемся чёрном чемодане, я наткнулся на пачку бумаг, завёрнутую в непрозрачный пакет. А развернув его, обнаружил, скрытую здесь от посторонних глаз, нашу с Линой переписку. Старую переписку. Сочинения золотого века, именуемого конфетно—букетным периодом. Мои письма к Лине и её ответы перепутались, на отдельных листах не стояла дата, да и уцелели они от уничтожения самым непостижимым образом. Как и немногочисленные фотографии. Если б я, тогда, накануне развода, не позволил себе порыться в бумагах Лины, то они разделили бы участь книг и фотоплёнок, старательно истреблённых Подкопытовым, её вторым мужем.
Несколько лет после расставания я не мог прочитать из этих наивных посланий более трёх строчек. Настолько живо представало предо мною сохранившееся на листочках бумаги утраченное время, что я задыхался от захлёстывающих воспоминаний, от осознания незавершённости сказочного периода, от желания продолжить столь внезапно оборвавшуюся рифму.
Однако, не перечитав их снова, не заставив себя это сделать, я бы оказался не в состоянии восстановить в подробностях происходившее в те далёкие невозвратимые месяцы.
Самое раннее письмо к Лине было написано мною через пять дней после первого свидания, 4 октября. Благодаря отвратительно составленному расписанию у меня ежедневно выходило по куче, так называемых, «окон», т.е. свободных уроков. Почему свободных? Крайне просто – для проведения занятия не находили кабинет, все классы оказывались распределены. И вот, сорок минут приходилось сидеть в прохладной лаборантской, ожидая следующего урока. На одном из пресловутых «окон» я и составил нижеследующее послание. Оно изначально писалось вовсе не для того, чтобы Лина его прочитала, мне требовалось выговориться, поделиться с кем—нибудь, ну, пусть, и с листком бумаги, переполнявшим меня трепетом обожания, не позволявшим думать ни о чём другом, кроме как о скорейшем свидании с Линой. И это послание, долгие годы пролежавшее среди страниц дневника, она не читала. Лина даже не подозревала о существовании сей корреспонденции.
Стараясь абстрагироваться от шума, доносящегося из—за тонкой фанерной стенки, от творившегося безобразия, ни в малейшей мере не напоминавшего нормальный урок, я запахнулся в куртку, уселся на шаткий стул у зарешеченного окна, выходящего на бурый от пожухлой осенней травы, школьный двор, выдрал из тетрадки с конспектами занятий чистый лист, мгновение помедлил, задумавшись, а затем начертал следующее:
«Здравствуй, моя милая, дорогая, нежно любимая девочка!
Ты не представляешь себе, насколько пусто вокруг оттого, что мы не можем часто видеться. Однако, у нас остаётся возможность, и отнять её никто не в силах, возможность мысленно общаться или излагать чувства хотя бы и на бумаге. Определённые слова проще донести посредством письма, нежели произнести. Может быть, воспользуемся этим вариантом?
Очень соскучился, а, ведь, прошёл всего, кажется, день, со времени расставания. После нашего общения я до сих пор нахожусь в состоянии лёгкой невменяемости, невероятно трудно сосредоточиться на работе. Ощущение, что физически – то я нахожусь, вроде и здесь, в кабинете, но в воображении – с тобой, и крепко обнимаю мою ненаглядную принцессу.
Не лучше ли сказать вот так:
Ну почему ты далекоМоя вторая половинка?Я, словно мягкая пылинкаКоснулся бы тебя легко.Коснулся бы твоих волос,Вдохнув дурманящую сладость,И отогнал бы боль и слабость,Они не стоят твоих слёз.Я обнял бы тебя дождём,Скатившись по щеке росою,Укрыл бы радугой—дугоюТебя холодным серым днём.Я отдал бы тебе тепло,Чтоб не грустила, улыбалась,Чтобы беспечно рассмеялась,Открыв навстречу мне окно.Я держусь за счёт уверенности, что мы увидимся, что придёт миг, и я крепко—крепко прижму к себе мою милую девочку. Да, сейчас я уверен, нет ничего более сложного, чем находиться в разлуке с тобой.
Перечитывай, иногда, это письмо, если вдруг заскучаешь. Помни, солнышко моё: я люблю тебя, ценю тебя, и несказанно сильно хочу быть с тобой.
Благоговейно обнимаю и целую, надеюсь, вскоре мы встретимся, и я сделаю это наяву.
До свидания, любимая.
Сергей».
На следующий день, уже будучи после работы дома и, с нетерпением ожидая её звонка, я написал второе послание, которое, подобно первому, не предназначалось для прочтения. В тот период всё виделось непонятным, шатким, а каждый наступающий день чудился последним днём коротких свиданий с Линой. Несмотря на стремительное развитие отношений, я старался пришпорить время ещё сильнее, дабы оно неслось вскачь, вихрем, ураганом, неумолимо сближая меня и Лину, сталкивая нас с ней, сплетая наши истосковавшиеся по любви тела и души, и не давая разомкнуть объятий. Никогда.
«Здравствуй, моя любимая девочка!
Знала бы ты, до какой степени мне тебя не хватает! Я, неимоверно, безумно хочу быть с тобой. Прямо сейчас! Я пытаюсь объяснить это, а ты упрекаешь, будто я не хочу с тобой видеться. Да будь это осуществимо, я бы каждый день, каждый час находился рядом с тобою. Пусть мир несётся в тартарары, лишь бы целовать твои мягкие нежные губы, гладить твои шелковистые волосы, ощущать тепло твоего тела. Моему странному поведению и непонятным сбивчивым словам существует только одно объяснение: я безумно тебя люблю. И мне плохо, если я не вижу твоих добрых, полных нежности глаз, не ощущаю твоих ласк. Ещё сегодня не видеть тебя, ещё завтра без твоей любви! Ещё в субботу полдня я не смогу обнять тебя!
Безумно страшно потерять тебя, любимая! Меня приводят в бешенство предположения, что тебе, возможно, по сути, безразлично, кто именно тебя ласкает, целует лепестки твоих губ, ведь, и с другим ты вела бы себя не менее нежно, чем со мной. Я с трудом заставляю себя поверить, что это знакомство – судьба, что я не просто оказался рядом с тобой в выбранный тобою момент. Но даже пусть и так, я не откажусь от любви, чего бы это не стоило. И остаётся уповать на чудо.
До свидания! Звони почаще, милая. Звони каждый день!
Твой Сергей»
За неполных трое суток со дня знакомства, Лина стала для меня всем. Всеми рассветами мира, и всеми его малиновыми закатами. Всеми зимами, и всеми вёснами. Всею жизнью, и всею смертью. Казалось, она воплотила в себе самое светлое, что можно отыскать на свете. Неведомым краем сознания я понимал, этого не может быть, ибо у любого человека, пусть абсолютно святого, есть тёмная половина. И я прекрасно осознавал свою тёмную половину, и почему—то время от времени её демонстрировал самым неподобающим образом. Но не видел, или не хотел замечать её, в Лине. В ней я открывал то, чего, на мой взгляд, имелось исчезающе мало во мне самом. Поэтому неприятной неожиданностью, почти раздавившей меня, явились события, произошедшие в конце мая следующего года. Тогда впервые с хищной безжалостностью из тени показалась тёмная половина любимой. Половина, по прошествии нескольких лет завладевшая ею полностью, и уничтожившую ту Лину, перед коей я преклонялся, которую я боготворил. Такой, какой она была на заре нашей дружбы Лина останется лишь в своих письмах, отправленных на мой адрес с сессии, да на старых фото. И будет с них улыбаться по—прежнему, возвращая меня в то далёкое, утраченное счастье.
И, одновременно, как бы наивно такое утверждение ни смотрелось, она продолжала незримо присутствовать в моей дальнейшей жизни. Но, если женщина, носившая потом имя Лины Аликовны, являлась, по сути, неодушевлённой телесной оболочкой настоящей Лины и ненавидела меня всем естеством, то душа её, внезапно превратившись в моего ангела – хранителя, не единожды спасала никчёмную жизнь некогда любимого ею человека.
Всего через неделю после знакомства, мы уже не могли оторваться друг от друга, а через пятнадцать дней решили, следующим летом сыграть свадьбу, и привели в шоковое состояние Наталью Васильевну, маму Лины, не ожидавшую подобной прыти от скромной и рационально мыслящей дочери, находившейся под её жесточайшим контролем. И это не поддаётся логическому объяснению. Единственно требуется подчеркнуть: осознание, что Лина вдруг стала для меня не обычной знакомой, а чем—то гораздо бо́льшим, чем—то, без чего трудно дышать, пришло в начале октября, когда я, в один из вечеров, провожал её до дверей подъезда, а проводив, неожиданно для самого себя, наклонился и коснулся губами её щеки. А она не отстранилась, наподобие любой другой.
Откуда взялась во мне тем вечером столь неподдельная храбрость? Не знаю, наверно, я просто много выпил, ведь мы компанией отмечали тогда День Учителя.
В ту субботу, в честь торжества, уроки сократили до 30 минут. Накануне вечером, педагогический коллектив в помещении школьной столовой отмечал профессиональный праздник. Веселились, как обычно, с размахом. Это стало ясно, едва я утром ступил на крыльцо школы. В глаза бросилось, что тяжеленые входные двери расколоты, и одна из досок, вырванная из их середины, до сих пор валяется у боковой лестницы. Догадка вскоре подтвердилась, пройдя к секретарю за журналом, я чуть было не вляпался у стола в лужицу подсыхающей крови.
«Ого, да тут вчера по традиции мордобитием занимались. Шикарно гульнули, иначе не скажешь! Офигенная заварушка! Ну, молодухи, естественно, на партах плясали, раздеваясь. Куда ж без этого. Программа минимум. А драка, вероятно, под конец случилась. С кондицией не рассчитали. Думали – дошли, а оказалось – перешли. Душа острых ощущений запросила», – так прикинул я, возвращаясь к себе в кабинет, и оглядываясь по сторонам в поисках ещё каких—нибудь следов с пользой проведённого педагогами вечера.
Я на том гульбище не присутствовал. У меня появилась Лина и всё не связанное напрямую с нею перестало представлять интерес. Поэтому я весь вечер проторчал дома в ожидании её звонка, вскакивая при любом шорохе. А затем она позвонила и мы условились отметить грядущий праздник вместе, завтра, у меня на квартире. Правда, вначале требовалось заехать к Лине домой, познакомиться с её мамой и пообещать, что с Линой ничего плохого не произойдёт. Напоследок Лина продиктовала свой адрес и номер телефона бабушки, а я записал их карандашом на клочке бумажки, вырванной из блокнота.
Надо признать, почти сразу же наши разговоры по телефону превратились в особый, почти религиозный ритуал, воспринимаемый мною наподобие очередной дозы наркотика. Если Лина по какой—то причине не звонила, и я в тот день не слышал её мягкого и успокаивающего голоса, то испытывал реальную ломку. Воображение рисовало крайне неприятные события, в первую очередь её решение вдруг порвать со мной. В такие вечера комната превращалась в камеру, которую я по целому часу мерил шагами, мечась из угла в угол. Разом пропадал целый мир, я не мог сосредоточиться ни на одной вещи, прочитанные строки книг не запоминались, а прослушиваемая музыка распадалась на отдельные, никак не связанные между собой хаотические звуки. От одного упоминания еды начинало тошнить, а чай, так любимый мною в обычное время, вызывал отвращение. Ежели некстати приходил вдруг Савельич, или Туров, то произносимые ими слова оставались вне пределов моего сознания. Я автоматически им отвечал, но, по большей части невпопад, и мнительный Савельич не на шутку обижался, принимая мою прострацию за нежелание с ним общаться.
Однако, подобное только предстояло испытать в ближайшие месяцы, а пока я с нетерпением ожидал часа, когда опять увижу Лину. На втором уроке, в кабинет, где мною проводилось занятие с девятым классом, неожиданно заглянула дежурная завуч и попросила меня подойти к телефону. Кто—то звонил. Меня бросило в холод, подумалось, это Лина хочет предупредить, что приезжать не стоит. На негнущихся ногах я доковылял до канцелярии и, даже не опускаясь на стул, дрожащей рукой поскорее схватил лежащую на столе серую трубку телефона.
Какой же я испытал восторг, услыхав на том конце провода хрипловатый заторможенный голос Савельича. Он, не считаясь с ожидающими меня в классе учениками, заунывно поведал о намерении к обеду явиться в гости, так как ему, видите ли, потребовалось переписать на музыкальном центре кассету. Ольгерд не спрашивал, можно ли ему нарисоваться, он попросту ставил в известность о факте приезда. Вздохнув, тем не менее, с облегчением, ибо самые скверные ожидания не подтвердились, я предупредил Пустышкина о возвращении с работы, примерно, в половине двенадцатого. И сообщил, что около половины второго еду к Лине. Уверив, будто ему будет достаточно и часа, Савельич положил трубку.
Кое—как закончив уроки, и потратив дополнительно, двадцать минут на безрезультатные споры с Раёвой по поводу безобразно составленного ею расписания, я поспешил домой. Стояло «бабье лето». На бирюзовом небе не проплывало ни единой тучки, а солнце, точно радуясь вместе со мною, изо всех слабеющих сил старалось пропитать воздух теплом ушедшего лета и блеском надежды на своё триумфальное возвращение через каких—то семь месяцев. Лето закрыло сезон в сентябре, но в эти дни чуть прриподняло занавес и с любопытством заглянуло в зал, переполненный, уставшими от сентябрьских дождей, зрителями.
Хотя, кто знает, возможно, бежали наиобычнейшие октябрьские деньки, никому, кроме меня, ничем не запомнившиеся. Ведь и в моей памяти ни одна последующая осень не сохранилась, превратившись лишь, в остающуюся позади, скомканную череду пустых дождливых недель.
Савельич, не жеманясь, вовсю колдовал над аппаратурой, чем вызывал глухое роптание бабушки, не переносившей пустышкинской наглости. Он удивил, достав из пакета бутылку «Рябины на коньке», и сопроводив её появление на столе заявлением о появившемся желании выпить вместе с нами. Несколько дней назад, ещё до знакомства с Линой, я предлагал Савельичу отметить праздник, посидев, со мной и с Туровым за «рюмочкой чая». Но, учитывая требование принести с собой бутылочку того самого «чая», Савельич тогда отказался. А тут вдруг передумал и даже предусмотрительно откопал деньги на выпивку.
Не успели мы убрать флакон, как приехал продуманный Туров. Прикинув обстановку, он решил не покупать заранее, ни выпивку, ни закуску. Сначала Паша решил разведать, состоятся ли посиделки вообще. Бросив куртку на кровать, он уселся в кресле, и покачивая ногой с нескрываемым недовольством косился на Пустышкина.
Когда запись кассеты Савельича закончилась, я известил приятелей, что мне пора ехать за Линой.
– А мы куда? – недоумённо воззрился Туров.
– Давайте сделаем так: вы сейчас отправляетесь к Савельичу и дожидаетесь там. Будет всё нормально, я с Линой заскочу за вами, и все вместе поедем сюда. А, если произойдёт что—то непредвиденное, я с автомата звоню на номер Ольгерда, и ты, Паша, можешь ехать к себе. Или встретимся и порешаем. Глядишь, бабки сэкономишь! Устраивает подобный вариант?
Предложенный вариант их устраивал. Его приняли единогласно, отправившись поскорее на остановку трамвая. Бутылку Савельич, на всякий случай, прихватил с собой.
Сойдя в центре города с трамвая, я, стремясь успокоить расшалившиеся нервишки, выкурил сигарету, но помогло это слабо. Быстрая ходьба также не сняла нервного напряжения, усиливавшегося по мере приближения к дому Лины.
Набрав в грудь побольше воздуха, я, словно в омут, шагнул в полутёмный подъезд и, обмирая от ужаса, с сердцем, колотящимся отчего—то аж в желудке, поднялся на четвёртый этаж. На квартире Лины не висел номер, но он имелся на соседней, посему ошибиться было невозможно. Только я принялся высматривать, где располагается звонок, а за тёмно—коричневой железной дверью с глазком уже лязгнул засов, и из—за неё выглянула улыбающаяся, нарядная Лина. Взмахом руки она откинула назад со лба завиток волос и сказала:
– Привет, Серёж! Проходи, пожалуйста! А я уж заждалась тебя! Хотела даже к бабушке сбегать и позвонить, узнать, что случилось, и почему ты долго не приезжаешь.
– Да вроде—бы не опоздал, как договаривались. Друзья немного задержали, – облизнув пересохшие губы, потрескавшимся голосом ответил я.
– Ты сильно не пугайся, мы с мамой ремонтом занимаемся, поэтому у нас всё перевёрнуто вверх дном и беспорядок в квартире полный.
Беспорядок, действительно, оказался впечатляющим. Одно из кресел полностью завалили книгами, извлечёнными из стоящего рядом шкафа. Пол в гостиной, то ли скребли ножом, счищая старую краску, то ли ковыряли чем—то ещё, и он сильно напоминал изрытую метеоритами лунную поверхность. На тумбу трельяжа в кучу сложили бусы, бигуди, газеты, непонятные синие нитки. Одна из нижних дверец комода висела на единственной петле, углом упираясь в половицу.
Прикрыв входную дверь, я снял ботинки, повесил куртку на косо висящую вешалку, поправил перед зеркалом свой лучший, с заколкой, галстук, стряхнул с пиджака пылинки, пригладил причёску, и Лина провела меня в комнату, где представила маме. С тяжёлого коричневого раскладного дивана поднялась невысокая худенькая женщина с тронутыми сединой волосами, собранными на макушке, слегка вздёрнутым носом, таким же, как у дочери, и неприятными въедливыми тёмными глазами. Я не смог бы тогда объяснить, почему её взгляд привиделся странным, лишь подметил плещущуюся в нём, слегка пугающую лихорадочную искорку фанатизма. Она поздоровалась и с улыбкой сказала, что Лина все уши о новом знакомом прожужжала, и ей, в связи с тем, приятно со мной познакомиться.
Я ответил на приветствие и тоже заверил, что рад нашему знакомству. Воспользовавшись приглашением присесть, и я примостился на краешек дивана, стараясь не испортить стрелки выглаженных утром брюк. Перешагивая через лежащий посреди комнаты, скатанный палас, я задел головой люстру, начавшую опасно раскачиваться. Потолки показались низкими, хотя позже я привык и совсем не замечал этого.
Кроме Лины и её мамы, в комнате находилась женщина средних лет и две девочки, одна постарше, другая помладше. Как выяснилось, это Линина тётка и её дочери. Вся эта компания с интересом разглядывала вновь прибывшего, пока я прятал между колен трясущиеся пальцы, сцепив их в замок.
Наталья Васильевна, мама Лины, поинтересовалась, не хочу ли я чая, но я отказался, сославшись на сытость. И тогда последовал мини допрос. Хозяева вежливо интересовались местом моей работы, с кем живу, сколько получаю, пью ли, курю ли, каковы мои интересы, был ли я раньше женат, есть ли у меня друзья и родители, и так далее. Я старался отвечать не слишком многословно, но пытался выстраивать предложения по—книжному, заумно, пытаясь сосредоточиться и забыть про страх.
Выслушав ответы, сёстры переглянулись, и Наталья Васильевна попросила Лину сыграть одну пьесу. Лина, поднявшись из глубокого кресла, составлявшего дополнение к дивану, села за пианино, стоявшее у стены, возле окна, и коснулась клавиш. Полилась знакомая энергичная мелодия, а едва она закончилась, воспоследовал вопрос, узнал я автора или нет.
Отметив про себя замечательное владение Линой инструментом, я, потеребив усы, и подумав секунду, неуверенно назвал Бетховена.
– Шопен. «Экспромт-фантазия!» – засмеялась Лина.
А я хлопнул себя рукой по коленке, мысленно выругавшись.
Тут Нина Васильевна подкатила к дивану, на котором я расположился, невысокий журнальный столик с поцарапанной полировкой, и попросила Лину, несмотря на мой категорический отказ перекусить, принести с кухни чай, булочки и дыню. Засучив рукава серенькой кофточки, Лина юркнула на кухню и спустя миг появилась оттуда, держа в одной руке заварочный чайник, а в другой – две пустые фарфоровые чашечки с изображениями румяных яблок на боках. Аккуратно поставив чашки на стол, она поинтересовалась, крепкий ли я пью чай, и услышав утвердительный ответ, налила в предназначенную для меня чашку заварки на треть, а себе капнула всего несколько капель. Затем она вынесла поднос со сладкими булочками с вишнёвым вареньем, четыре кусочка твёрдой, слегка желтоватой дыни, и металлический чайник с кипятком. Я решил ей немного подсобить, и сам разлил кипяток по чашкам.