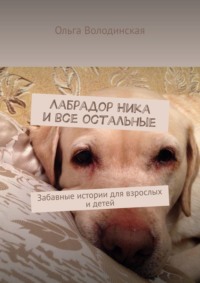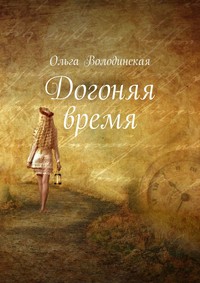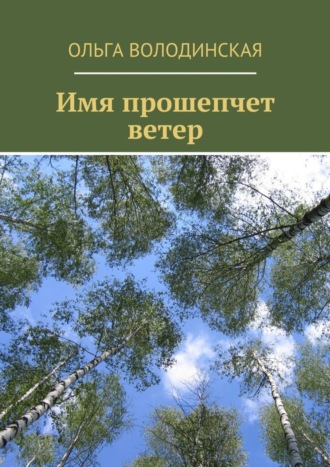
Полная версия
Имя прошепчет ветер
Так он мне все обсказал. Легше поначалу мне не стало, да только болезнь моя прекратилась. Стала я потихоньку домашнюю работу делать, сестрам да матушке помогать. Тяжело мне было видеть их взгляды, полные сочувствия и сострадания. Да и сама я мучилась ужасно.
Как засну, так снится мне мой Арсений любимый. Идет сквозь рощу березовую в той самой рубахе, которую я ему на ярмарке Покровской той злосчастной купила. Идет мне навстречу, улыбается, ямочки на щеках. Ветки руками отодвигает. Подходит, руку ко мне протягивает, да только не я это оказываюсь, а Серафима. Просыпалась я и все думала об них, думала, с ума от ревности и горя сходила. И самое главное – любить-то я Арсения не перестала. Как же это, – думала я, – он-то все забыл, что ли, как друг дружку мы любили? Закрывала глаза, а передо мной он, или детки мои все зовут меня: «Мама!» И прощения в душе моей для него не было. Только мука одна. Да ненависть к Серафиме.
Поняла я вскоре, что не выход это – жить дома. А тут отец Митрофан как-то зазвал меня с собой поехать в обитель, что в тех краях расположилась.
– Поедем, дочь моя, с сестрами познакомишься, истории их послушаешь, ежели расскажут. Помолишься, поживешь какое-то время, душой оттаешь, быть может. Вспомнишь, что ты – дитя Божье, подумаешь, ведь зачем-то Бог жизнь тебе сохранил, – уговаривал он.
Я и согласилась. Собралась, с родней попрощалась, и поехали мы. Оглянулась я на дом наш, все вышли за ворота, вслед смотрят, и такая тоска на меня опять навалилась, такая кручина за душу взяла… Расплакалась я, разрыдалась, даже батюшки не постеснялась. А он ничего не сказал, глянул только на меня да вздохнул тяжело.
Путь нам предстоял неблизкий, однако к вечеру должны были добраться. Я сначала все про жизнь свою думала, а потом маленько задремала. И сон мне приснился тогда чудной такой. Перед взором моим картина проплыла с монастырем великим. А потом и Ангел явился, указал на него своим перстом. «Это – твоя обитель, сестра», – сказывает. Положил мне на плечи тяжелый крест и вновь молвил: «Неси смиренно. А я помогать тебе стану». Я едва не упала под этой тяжестью. Но послушалась и в ворота монастырские вошла. А там свет яркий такой, аж глаза слепит. «Иди с Богом», – повторил Божий посланник. Ну, я и пошла. А у самой слезы полились из глаз.
Повозка наша вдруг дернулась, я и проснулась. А сон тот помнила. Тем более что сбылся он… Осталась я в той обители.
Встретила нас матушка Херувима, которая была тогда настоятельницей монастыря.
– Пойди, дочь моя, осмотрись пока, – сказал мне отец Митрофан.
***
Монахиня тяжело дышала и говорила с трудом. Пожилой священник в задумчивости смотрел на умирающую.
– Ну, а потом ты все почти знаешь, – прошептала игуменья Арсения и откинулась на подушки, – прощения теперь прошу…
– Да, матушка… Удивила ты меня. Ох, и удивила. Трудно тебе пришлось. Но ведь Господь просто так испытаний-то не посылает. Сама знаешь… Да и в чем грех-то твой? Если какой и был, дак все уж отмолила и делами своими праведность свою и чистоту своих помыслов доказала…
– Нет, батюшка. Не все ведь я тебе сказала.
– Слушаю тебя, матушка Арсения, – перебирая четки, наклонившись к умирающей промолвил старец, – что еще сказать мне хочешь?
– Девушка у нас была. Помнишь, может быть? Акулиной звали. Светленькая такая. Постриг хотела принять.
– Нет, матушка Арсения, не помню, обманывать не буду. Сказывай дальше.
– Отговорила я ее от пострига-то. В послушницах она ходила. А потом и вовсе из монастыря ушла.
– Как это отговорила?
– А вот так, батюшка. И не раскаиваюсь в этом. Прости ты меня. С Господом я позднее поговорю, как предстану перед Ним. А тебе скажу. Негоже это, чтобы молодые девицы дни свои в монастырях проводили в заточении. Как цветы в снегу. Вон подснежник, и тот к свету, в мир тянется. Долго я об этом думала. Все решиться не могла девиц молодых отговаривать и в обратном убеждать да радость жизни показывать.
– Да ты в уме ли, матушка?! – ахнул духовник, перекрестившись.
– Мне уж теперь все одно. Я долго сомнениями мучилась. Но по сей день не могу я с этим согласиться. Она родить должна, замуж выйти. Ну, разве место ей здесь, в обители? Разве это Бог задумывал, когда в мир наш ее посылал?
– И многих отговорила?
– Теперь уж и не припомню.
– И ни одна ведь ни разу не рассказала, не пожаловалась. Ни мне, никому другому… Видно правильное что-то ты им говорила…
– Все в жизни может быть. Бывает и молодая девушка решает посвятить свою жизнь Господу, уйти от мира. Это не возбраняется. Когда всем сердцем, всей душою к этому стремишься. Но есть и такие, кто сгоряча решился на это или из боязни какой. Жизни трудной или голодной испугались, испытаний, нищеты или еще чего. От них в монастыре и прятались. Да, и здесь нелегко, но все ж не так, как в миру. Там-то труднее. Не захочешь, а согрешишь порой. Или кто в скорбях своих жить в миру забоится. Замкнется, верить всем перестанет и кажется им тогда жизнь в монастыре раем. Однако ж это труд великий, хоть как посмотри. Да и не для того мы на этот свет пришли, чтобы взаперти тут от мира находиться и радостей жизни нашей лишиться. Не для того….
– А для чего, матушка, по-твоему?
– Радоваться. Каждому мигу радоваться. Листочек на веточке затрепетал – радость, птичка запела песнь свою – опять радость. Мороз все вокруг разукрасил – и это благодать Божья. Находить ее надобно всегда и везде… Каждый день находить! Что бы ни случалось! И Бога славить и благодарить. Гости мы здесь… И что есть наша жизнь – миг один. Что ж себя в стенах-то запирать….от жизни этой прятаться… в черных одеждах. Господу служить в миру надо, каждый день жизнью своею доказывать, что не зря на Землю эту пришел. Бога прославлять и учению Его учить. Детей своих учить, воспитывать. Любить… Бог для счастья нас создал. Чтобы мы жили, познавали эту жизнь, радовались, лучше становились, понимая, что именно этого Бог от нас хочет. Теперь-то я уж точно это знаю. Какую заповедь Он дал? Любите друг друга. Вот это и есть святой долг на жизнь для каждого – заполнять все любовью вокруг себя и внутри себя. А что монастырь?.. Обитель. От мира укрыться, спрятаться… Во многом, конечно, это легше. Но не во всем…
– Да как же ты к мыслям-то таким пришла?
– Потому что послушница та дочкой мужу моему приходилась. Серафиминой дочкой. Матери-то уж не было у нее. Умерла она, Серафима-то. Моих-то, считай, вырастила, а своих сиротами оставила. И вот дочка ее ко мне и пришла. Чуть помладше она моей Аришеньки была. Разве ж я ей такую долю пожелала бы? Вот и этой не смогла.
– Ладно, матушка Арсения. Дело это прошлое. Плохо только, что со мной не посоветовалась ни разу.
– Так ведь разве ж ты одобрил бы?
– Да уж, не одобрил бы….Удивляюсь я, как же ты умудрилась монастырь-то при этом до упадка не довести….А наоборот! Ведь народу всегда у тебя тут много было. Поэтому выходит, что грех твой и не грех вовсе оказывается. Так что отпускать мне нечего. Сама ты нагрешила, сама и исправила. Вон, какую обитель подняла да вела. Со всех сторон к тебе паломники ехали. Скольким помогла, скольких исцелила. Больницу целую выстроила. Да много чего еще. Нет, дочь моя Арсения, не судья я тебе. Умирай с миром. Быть тебе в раю и песни ангельские слушать. Сам буду о душе твоей молить, да о прощении.
– Спасибо тебе. Там в шкафчике моем книги. С первого дня историю монастыря веду. Сохрани… Сестрам я уж приказывала…
– Прочту я. Что-то заново узнаю, а что-то и вспомню… Ну, исповедовалась ты мне. Давай теперь причащу тебя, горемычную, да соборую. Чтоб ко встрече с Создателем и ты, и дух твой были готовы.
– Я готова, батюшка. Вот только любимых детей моих и мужа повидать хочу. Прощения и у них попросить… Молю Бога об этом.
– Да разве ж ты перед ними в чем виновата?
– Видно, виновата, раз Господь послал мне долю такую. Кто знает, правильно ли все было? Так ли надо было… Много я обо всем этом думала. Может, в счастье своем только себя и разумела, может, кого обидела ненароком али не замечала вовсе, про беды других, может, мало думала, может, и судила кого строго, сравнивала, а в себе ничего не замечала. Да и поблагодарить хочу. Что были они у меня. Светом нетленным в моей душе светили. Через них ведь все делала-то я. Все через них. Думая, помня да любя… Раньше-то я какая была? Все ж с характером. Хотела все, чтоб по-моему было. Всех ли любила? Никого ль не осуждала? Ни на кого ль не серчала? А сейчас? Во-о-от! То-то и оно! А теперь, давай, батюшка, а то боюсь не успеть мне приобщиться Святых Христовых Тайн. «Верую, Господи, и исповедую…», – начала читать молитву монахиня.
– Как Святитель Иоанн Златоуст писал, что умирающих, «если они причастятся Тайн с чистой совестью, при последнем дыхании окружают ангелы и препровождают их отсюда на небо ради принятых ими Тайн». Для соборования все ли приготовила, матушка?
– Да. Все есть. На полочке там возьми и свечи, и скатерть чистая, и елей…
Отец Филимон зажег еще свечи.
– Благословен Бог наш, – приступил к таинству духовник.
Часть 2. В обители
***
….И осталась Пелагея в той обители. Сначала исправно трудилась она, где попросят. Потом, когда прознали, что молодая женщина умеет прясть, вышивать да вязать, поручили ей обучать этому сестер и послушниц.
В монастыре были строгие правила. Ели в трапезной все порознь: вначале, кто познатнее, потом остальные монахини, а уж после послушницы. Праздные разговоры друг с другом вести возбранялось.
Пелагее было неуютно, одиноко и тоскливо. Монахини казались ей почти бесплотными тенями, безмолвно появляющимися и также тихо и незаметно исчезающими. Она часто бродила, как неприкаянная, с готовностью выполняла, кто что попросит. Тогда-то настоятельница и поручила ей обучать сестер рукоделию, да закрепила за ней монастырских коз. Таковым и определили ее послушание поначалу.
Рано утром Пелагея выводила коз на луг пастись, ближе к обеду приносила им воды, а уж как солнце к закату клонилось, забирала и вела своих подопечных назад, в их жилище. Она доила их, ухаживала, убирала за ними. Ей нравилось это занятие. Пелагея разговаривала с животными, гладила их по жесткой шерсти, и те отвечали ей радостным блеянием. И от этого молодой женщине становилось уже не так одиноко. Она ощущала себя хоть кому-то нужной и полезной.
Так проходило время. Пелагея начинала привыкать к своей новой жизни, хотя иногда думала о том, что не хотела бы провести все отпущенные ей дни именно так: было жаль времени, проходящего, как сквозь пальцы – песок. Хотя в работе она, конечно, забывалась и уже не так мучилась своими навязчивыми, терзающими душу мыслями.
Как-то раз, отведя коз на луг, Пелагея медленно брела к монастырю, размышляя о своей жизни. Как вдруг увидела схимонахиню. На лоб той был надвинут черный куколь так глубоко, что лица почти не было видно и, казалось, она, идя по лугу, не замечала ничего вокруг. Пелагея от неожиданности остановилась.
– Спаси, Господи. Благословите, матушка, – тихо произнесла она.
Схимница взглянула на нее пристально, надолго задержав взгляд и слегка отодвинув назад куколь. Лицо ее было сплошь покрыто морщинами, но голубые прозрачные глаза смотрели по-доброму.
– Ты откуда будешь, сестра, из обители? – спросила она, ответив на приветствие.
Пелагея кивнула, низко опустив голову. Неожиданно на ее глаза навернулись слезы. Она склонилась еще ниже.
– А вы здесь гуляете? – сдерживаясь, чтобы окончательно не расплакаться, спросила она первое, что пришло в голову.
– Да, касатка, гуляю, – усмехнулась монахиня. – Травы лечебные ищу да собираю. Потом сушить их буду, – уже серьезно сказала она. – Хочешь, и тебя научу? А то смотрю, ты сюда, как неприкаянная ходишь, да слезы, гляжу, вот-вот прольются.
– Нет, матушка, простите. Я не неприкаянная. Я послушание несу – коз пасу и еще сестер вязать да прясть обучаю. Мне матушка Херувима наказала.
– А-а-а, ну это хорошо, это дело богоугодное, если пользу приносишь сестрам и монастырю. Да и себе… А грустишь чего?
– Не знаю я, матушка, как дальше мне жить. В монастыре ли оставаться… Хотя и идти мне некуда, – с безнадежностью в голосе произнесла Пелагея.
– Что так? Али ты сирота?
– Нет, я не сирота. Просто так уж в жизни моей сложилось… Видно, Господу так было угодно. Но только в толк я никак не возьму, чем я его прогневала и что мне надобно сделать теперь, чтобы жизнь свою наладить.
– Эх, милая, Божий Промысел не каждому дано понять. Далеко не каждому. Принимать надо… Хотя, если бы это было так просто… Но то уже хорошо, что вопрос себе такой задаешь, да ответ пытаешься сыскать. Ищущий да обрящет. А про травки-то подумай. Научу тебя тому, что знаю. Я ведь не вечная, наступит время, и мне пора будет в Небесную Обитель отправляться. Ты постриг-то собираешься принимать? Или никак не надумаешь?
– Я бы хотела, но еще рано мне, да и матушка Херувима думает, что не больно я к постригу готова. Надо сердцем желать этого. А я пока только оттого, что деваться мне более некуда. Хотя ведь и послушницей можно прожить…
– Послушницей-то можно. А что ж тебе в монастыре плохо?
– Нет, не плохо, совсем не плохо, – горячо уверяла Пелагея. – Сестры ко мне с добром, с теплотой, да и матушка, я чувствую, жалеет меня. Просто никак я не могу на новую жизнь решиться, от старой отрекшись.
– Что ж тебе мешает?
– Любовь… – тихо ответила Пелагея.
– Любовь? Вот удивила ты меня. Да как же любовь помешать-то может.
– Вы меня, видать, не так поняли-то. Я мужа своего люблю. Деточек малых, -заплакала опять послушница, – и не могу я от этого отречься.
– Не знаю, что там в твоей жизни случилось. Захочешь, расскажешь после. Но вот, что я тебе скажу, милая, – а тебе и не надо от них отрекаться. Тебя же что-то в монастырь привело? И назад, в прошлое дороги нет, так ведь? Ну, так зачем же отрекаться? Пусть они так и остаются в прошлом твоем. И как говаривают, не вспоминай в упрек о прошедшем, иначе Господь вспомнит и взыщет то, что уже простил. А ты просто новую жизнь начнешь. И молиться за них, за дорогих своих будешь, помогая им своими молитвами. Господь всегда помогает, когда обращаешься к нему с открытым сердцем. Никого не оставляет. Вот и ты, молись, детка. Молись о своих дорогих, молись о себе. Богородицу за них проси. Материнская молитва, знаешь ли, горы может сдвинуть и моря высушить. И все-е-е-е пройдет. Всегда все проходит. Помни об этом. А мы маловерны. В этом все дело. В маловерии нашем. Вот ты думаешь, что в Бога веруешь?
– Верую, матушка… конечно, верую.
– А в чем тогда печаль-то твоя? Сомневаешься, видно, в Нем, в Боге-то. В том, что все правильно, да что поможет Он, что не оставляет Он чад своих. Да что каждый должен свой Крест нести. Смиренно и с верою. Ну, надумаешь, приходи… – оборвала вдруг сама себя монахиня.
– А как мне вас найти, матушка?
– А вот здесь и найдешь, Бог даст…
– А как вас зовут?
– Мать Евфросиния. Ступай с Богом.
***
В монастыре Пелагея рассказала настоятельнице об этой встрече. Матушка Херувима выслушала, и, подумав, сказала:
– Ну, что ж, может, так оно и лучше будет. Не с каждым мать Евфросиния заговорит да совет даст. Ходи, помогай, да слушай больше. Матушка многому тебя научит. Бог даст и оттает сердце твое. Глядишь, и к постригу придешь сама по своему разумению и желанию. Ну, а нет, послушание будешь нести, сколько надобно, да и сверх того.
Так и стала Пелагея отводить коз на луг, да поджидать схимонахиню. И в один прекрасный день дождалась. Старая монахиня появилась. Она стала показывать ей лечебные травы, рассказывала, как делать из них отвары и как они помогают при болезнях.
– Тело-то вылечить можно, но лечить надо дух. Это – главное, – любила повторять врачевательница. – А для этого выслушать человека надобно, чтоб рассказал, чем он живет, да как… Какие мысли у него в голове, да что на сердце. Может, боль какую душевную прячет али обиду затаил. И уж потом решать, отчего с ним какая хворь приключилась, как и чем ему лучше помочь.
Пелагея была способной и быстро все запоминала. Однажды она задумалась над тем, что если можно делать отвары из трав, причем разной густоты, то можно сделать и растирку специальную или мазь, используя при этом воск, жир или масло. Такую мазь, которая будет помогать от боли в суставах, в спине, заживлять раны. Она попробовала изготовить такую мазь из сабельника, и снадобье это помогло старой монахине, мучившейся страшными болями от подагры. И рассказала Пелагея о своем открытии своей наставнице.
– Да ты дальше меня пойдешь с Божьей помощью. Будет кому ремесло свое передать перед смертью.
– Что вы такое говорите, мать Евфросиния! Я к вам так привязалась. Как к матушке родной.
– А ты не привязывайся ни к кому, касатка. Тогда и отпускать легче будет. Никто навечно с тобой не останется: ни мать, ни отец, ни дитя малое, никто другой. Да ты ведь это и сама уж знаешь. Вот и не привязывайся накрепко.
– Да как же это? Я же люблю их больше всего на свете! Как не привязываться-то?
– Эх, милая. Да любить-то тебе никто не запрещает. Но ты больше всех на свете только одного должна любить.
– Кого же?
– Бога, родимая. Бога. Коли ты веришь только ему одному безгранично и любишь его, ты знаешь, что Он все делает для твоей пользы, как тебе и нужно. И ты веришь, что все будет хорошо. Что бы там с тобой ни случалось. Тогда ты и принимаешь все безропотно, как праведный Иов. И не горюешь тогда ни о ком и ни о чем. Иные вон чад своих до того возлюбят, что не знают, куда посадить их, лучший кусочек им отдают, да все пылинки сдувают, себя и всех вокруг забывая. А Бог-то и показывает, что не надобно так-то. «Отрекись от всех и иди за мной», – вот что Бог-то говорит. Это и значит, что верить надо, верить безоглядно. Богу верить.
– Я не понимаю, как это любить, но не привязываться… Никак не пойму.
– Поймешь, придет время. Люби. Да принимай все, как есть. Ты вон никак не можешь. Никак твое сердце не отпускает.
Пелагея низко опустила голову.
– Это ведь не только людей касается. Но и всего. Вот сказано: «Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». Это ведь потому, что богатый человек к добру своему привязан шибко. Накрепко привязан. Вот в чем дело-то. Пусть человек будет богатым, но не привязанным к своему богатству, пусть будет всегда готов легко с ним расстаться, ближнему помочь, если требуется. Без жадности и без сожаления. Так что и ко мне привязываться не надо. Настанет день, и я уйду. К Отцу Небесному в Обитель. И момент этот уж близок. Я чувствую. Потому и учу тебя. Да книги все свои старинные тебе передам. Много там мудрости. И врачевательных наказов много. И не хочу я, чтобы ты по мне горевала.
– Но вспоминать-то о вас можно?
– Конечно, вспоминать можно. И нужно. А вот слезы лить ни к чему. Радуйся за меня. Что заканчиваю я этот путь свой земной.
Совсем загрустила было Пелагея, но над словами старой схимницы задумалась.
***
И наступил день, когда, придя на знакомый уже луг, где они встречались с наставницей, Пелагея впервые за долгое время так и не дождалась монахиню. Удивившись и забеспокоившись, она решилась пойти в скит, где жила матушка Евфросиния. Найдя келью схимницы, Пелагея постучалась.
– Молитвами святых матерей наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, – начала она.
– Аминь, – едва послышалось в ответ.
Пелагея отворила дверь и осторожно вошла в келью, низко нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку.
– Спаси, Господи, благословите, матушка, – поздоровалась она.
– Подойди ко мне, Пелагея, – тихо произнесла монахиня. – Пришел мой час. Прости уж меня, касатка. Бог не оставит тебя, а мне уж пора ко Господу. Он зовет меня к себе. Обо всем мы с тобой говорили. Незаметно, а ведь цельный год уж прошел. Всему, что знала сама, я тебя обучила. В нужное время мы с тобой встретились. Травы мои соберешь, те, что сушатся, отвары тоже забери да книги, какие тебе обещала. Четки вот тебе дарю на память. Не горюй и не плачь. Я в дом свой Небесный ухожу, в свою Обитель возвращаюсь. Без печали и без сожаления. А ты тут пока в юдоли земной остаешься. Наклонись-ка ко мне, касатка моя, – попросила умирающая. – Учись прощать, вот что я тебе скажу, – прошептала она, – да полагайся во всем на Бога. Не противься. А чтобы научиться этому, знаешь, что надо?
– Добрым быть? – утирая набегающие слезы, прошептала в ответ Пелагея.
– Любить надо. Все и всех. Учись любить. Всю жизнь учись. Тогда и прощение от тебя будет всем. И тебе воздастся. Молись об этом. Проси… Да помни, для чего в монастырь-то приходят.
– Для чего, матушка?
– Для покаяния, сестра. Ступай. Храни тебя Господи! Сейчас мое время наступает. Помолиться мне надо, как следует, перед таинством главным своим.
– Как же я оставлю вас, матушка? – пробормотала в отчаянии Пелагея, оглядываясь в беспомощности.
– Не волнуйся обо мне. Главное – душа. А о теле позаботятся. Ступай с Богом. Потом придешь. Все возьмешь, что захочешь: и Библию, и образа. Потом. А теперь – благодарю тебя за все, прости и прощай. Христос с тобой!
Пелагея все же не смогла удержаться от слез. Долго бежала она сначала по пролеску, потом по лугу. И только добежав до монастырской ограды, остановилась, слегка запыхавшись. Повинуясь странному порыву, она зашла в Храм. Там было тихо, пахло свежевымытыми полами. Пелагея подошла к иконе Божией Матери, опустилась в молитве на колени, потом поднялась и долго смотрела Богородице в глаза. Затем, перекрестившись, медленно вышла. И вдруг поймала себя на мысли, что внутри у нее возникло неведомое доселе чувство. Это был и восторг, и радость, и щемящая печаль одновременно. Пелагея не могла себе объяснить, что это вдруг на нее нахлынуло.
– Благодать Божья, – подумала она, – так вот о чем говорила мать Евфросиния. Ведь я сожалею о ее уходе, но вместе с тем, думаю о ней с радостью. И на сердце ничего не давит, и на душе легко. И слезы мои о ней светлые. Как при расставании просто. Вот что значит не привязываться, а отпустить. И ей поэтому возноситься к Отцу нашему легче. Не держу я ее здесь своими слезами да стенаниями. Как это мудро! Как это сложно и легко! – рассуждала Пелагея, чувствуя огромную благодарность и к старой монахине, и к жизни за то, что так разумно в ней все устроено.
С этого дня она часто захаживала в Храм, подходила вновь к полюбившейся иконе, всем сердцем желая вновь и вновь испытать чувство блаженства и покоя, радости и какого-то необъяснимого счастья. Постепенно Пелагея научилась вести мысленные диалоги с Богом, спрашивала совета, задавала вопросы и умела слышать на них ответы, чувствуя при этом и удивление, и счастье, и ощущение настоящего чуда, происходящего с ней. Жизнь вновь обрела для нее смысл, она снова почувствовала ее вкус и опять начала ощущать радость своего бытия. Наступил день, когда Пелагея сообщила матушке настоятельнице о своей готовности принять малый постриг. Так стала она инокиней Меланией.
***
Изредка к ней наведывались мать с отцом. Правда, здесь, в монастыре были не приняты такие визиты, но Пелагее на первых порах разрешали эти свидания. Приехав однажды, родители застали Пелагею уже в монашеском одеянии. Но увидев, как дочь улыбнулась, какие спокойные у нее глаза, в которых исчезла тоска и боль, родные поняли, что, возможно, она избавилась от своих горьких воспоминаний, не страдает больше, и очень обрадовались этому.
Поскольку Пелагея была грамотной, много знала, стала она во всем помощницей матушки Херувимы. Назначила та ее казначеей, доверив все монастырское хозяйство. Вместе с настоятельницей они совершали и паломнические поездки, воспринимая их как духовный труд. А однажды с благословения епископа решились они отправиться в путешествие и на Святую Землю.
Долог был этот путь. И полон он был опасностей и приключений. Сначала добирались монахини до Одессы. Ехали то поездом, то на телегах. Затем пароходом прибыли в Константинополь. Попали, правда, в шторм, который изрядно их потрепал. Измученные, уставшие, осунувшиеся добрались они до Царьграда, с трудом нашли ночлег, а через несколько дней, слегка опомнившись от пережитого, уже на другом судне отправились в порт Яффе. Усиленно молились путешественницы, вспоминая с содроганием недавнее плавание, и радовались тому, что на море был штиль, и погода стояла ясная и теплая. Из Яффе караваном долго шли паломники по специальному маршруту – по городам, связанным с земной жизнью Христа. И вот, наконец, главная цель их путешествия – Иерусалим.
Пелагея никак не могла уразуметь, представить, что именно здесь, в этих местах начиналась и проходила вся библейская история. И каждый камень – настоящий ее свидетель. И все, даже воздух был здесь пропитан историей, несмотря на прошедшие столетия. Кругом их окружала святая древность… Все это вызывало какое-то невероятное благоговение и не переставало изумлять Пелагею.