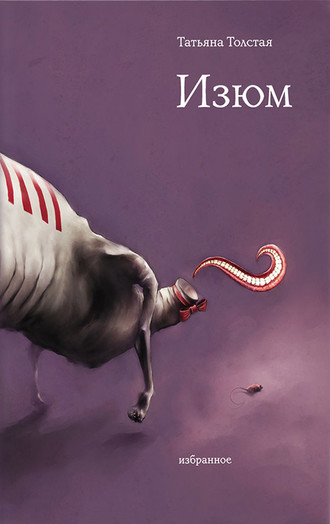
Полная версия
Изюм (сборник)

Татьяна Толстая
ИЗЮМ
Рассказы
Сны
Чужие сны
Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в мерседесе ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан – погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.
Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклянные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.
С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом, – золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы – зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах – водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.
Он-то умер, а город-то остался, и вот, жить нам теперь в чужом сне.
Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал о Петербурге, – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, – развесили свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити – город все тот же, – сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшненький, неприспособленный для простой человеческой жизни.
Я непременно куплю в Питере квартиру: я не хочу простой человеческой жизни. Я хочу сложных снов, а они в Питере сами родятся из морского ветра и сырости. Я хочу жить на высоком этаже, может быть, в четвертом дворе с видом на дальние крыши из окна-бойницы. Дальние крыши будут казаться не такими ржавыми, какие они на самом деле, и прорехи покажутся таинственными тенями. Вблизи все будет, конечно, другое, потрепанное: загнутые ветром кровельные листы, осыпавшаяся до красного кирпича штукатурка, деревце, выросшее на заброшенном балконе, да и сам балкон с выставленными и непригодившимися, пересохшими до дровяного статуса лыжами, с трехлитровыми банками и тряпкой, некогда бывшей чем-то даже кокетливым.
Особенно хочется дождаться в питерской квартире поздней осени, когда на улице будет совершенно непереносимо: серые многослойные тучи, как ватник водопроводчика, сырость, пробирающая до костей, секущий, холодный ингерманландский дождь, длинные лужи, глинистые скверы с пьяными. Потом ранняя, быстрая тьма, мотающиеся тени деревьев, лиловатый, словно в мертвецкой, свет фонарей и опасный мрак подворотен: второй двор, третий двор, ужасный четвертый двор, только не оглядываться.
Да, и еще длинные боковые улицы без магазинов, без витрин с их ложным, будто бы домашним уютом. Слепые темные тротуары, где-то сбоку простроченные шумящими, мокрыми, невидимыми деревьями, только в конце, далеко, в створе улицы – блеск трамвайного рельса под жидким, красным огнем ночного ненужного винного бара.
Кто не бежал, прижав уши, по такой страшной бронхитной погоде, кто не промокал до позвоночника, кто не пугался парадных и подворотен, тот не оценит животное, кухонное, батарейное тепло человеческого жилища. Кто не слышал, как смерть дует в спину, не обрадуется радостям очага. Так что, если драгоценное чувство живой жизни притупилось, надо ехать в Питер в октябре. Если повезет, а везет почти всегда – уедешь оттуда полуживой. Для умерщвления плоти хорош также ноябрь с мокрым, ежеминутно меняющим направление снеговым ветром, а если не сложилась осенняя поездка – отлично подойдет и март. В марте лед на реках уже не крепок, не выдержит и собаки, весь покрыт полыньями, проталинами, синяками, но дует с него чем-то таким страшным, что обдирает лицо докрасна за шестьдесят секунд, руки – за десять.
Непременно, непременно куплю себе квартиру в Питере, слеплю себе гнездо из пуха, слюны, разбитых скорлупок своих прежних жизней, построю хижину из палочек, как второй поросенок, Нуф-Нуф. Натаскаю туда всякой домашней дряни, чашек и занавесок, горшков с белыми флоксами, сяду к окну и буду смотреть чужие сны.
Окон в Питере никогда никто не моет. Почему – непонятно. Впервые я обратила на это внимание в конце восьмидесятых годов, когда началась перестройка. Ясно, что тогда телевизор было смотреть интереснее, чем выглядывать в окно: кого еще сняли?.. что еще разрешили?.. Потом интерес к политике угас, все сели, как завороженные, смотреть мыльные оперы, так что тут тоже стало не до ведер с мыльной водой. Потом жизнь поехала в сторону полного разорения, денег не стало, потолки осыпались на скатерти, а обои свернулись в ленты, и мыть окна стало как-то совсем неуместно. Кроме того, Питеру всегда была свойственна некоторая надменность, горькое презрение к властям всех уровней, от жэка до государя императора: если «они» полагают, что со мной можно так обращаться, то вот вам, милостивый государь, мое немытое окно, получите-с. Но возможны и другие объяснения: нежелание смотреть чужие сны, смутный протест против того, что куда ни повернись – всюду натыкаешься глазом на чужое, на неродное, на построенное не для нас. Или, потеряв статус столицы, Питер опустился, как дряхлеющая красавица? Или в ожидании белых, томительных ночей, выпивающих душу, жители копят пыль на стеклах, чтобы темней было спать? Или же это особое питерское безумие, легкое, нестрашное, но упорное, как бормотание во сне? Когда я осторожно спросила свою питерскую подругу, почему она не моет окон, она помолчала, посмотрела на меня странным взглядом и туманно ответила: «Да у меня вообще ванна в кухне…»
Эта была правда, ванна стояла посреди огромной холодной кухни, ничем не занавешанная, но в рабочем состоянии, при этом в квартире – естественно, коммунальной, – жило двенадцать человек, и, по слухам, мылись в этой ванной, не знаю уж как. И, наверно, это было как во сне, когда вдруг обнаруживаешь, что ты голый посреди толпы, и этого никак не поправить по каким-то сложным, запутанным причинам.
Как и полагается лунатикам, петербуржцы гуляют по крышам. Существуют налаженные маршруты, вполне официальные, и можно собраться небольшой группой и отправиться с небесным поводырем на экскурсию, перебираясь с дома на дом по каким-то воздушным тропам; есть и частные прогулки: через лазы, слуховые окна, чердаки, по конькам крыш, на страшной для бодрствующего человека высоте, но ведь они спят, и им не страшно. С высоты они видят воду, балконы, статуи, сирень, третьи и четвертые дворы, далекие шпили – один с ангелом, другой с корабликом, развешанное белье, колонны, пыльные окна, синие рябые кастрюли на подоконниках и тот особенный воздух верхних этажей, то серый, то золотой, смотря по погоде, – который никогда не увидишь в низинах, у тротуаров. Мне кажется, что этот воздух всегда был, висел там, на семиэтажной высоте, висел еще тогда, когда города совсем не было, надо было только построить достаточно высокие дома, чтобы дотянуться до него, надо было только догадаться, что он плавает и сияет вон там, надо было запрокинуть голову и смотреть вверх.
Если не запрокидывать голову, то в Питере вообще нечего делать: асфальт как асфальт, пыль или лужи, кошмарные парадные, пахнущие кошками и человеком, мусорные баки, ларьки с кефиром «Петмол». Если же смотреть вверх, от второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город: там еще живут маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи, стрельчатые окна, витые колонки, львы, смеющиеся лица младенцев или ангелов. Их забыли, или не успели уничтожить мясники двадцатого века, гонявшиеся за людьми. Один, главный, все кружил по городу мокрыми октябрьскими вечерами, перепрятывался, таился, и в ночь на 25 октября, как нас учили в школе, заночевал у некоей Маргариты Фофановой, пламенной и так далее, а может быть, вовсе и не пламенной, – тут вам не Испания, – а обычной, водянистой и недальновидной дамы с лицом белым и прозрачным, как у всех, кто умывается невской водой. На рассвете, подкрепившись хорошим кофе и теплыми белыми булочками с вареньем из красной смородины, он выскользнул в дождевую мглу и побежал в Смольный: составлять списки жертв, прибирать к рукам то, что ему не принадлежало, ломать то, что не строил, сбивать лепнину, гадить в парадных, сморкаться в тюль, разорять чужие сны, а в первую очередь расстреливать поэтов и сновидцев. Хорошо ли ему спалось на пуховичках у Фофановой, или он весь извертелся, предвкушая мор и глад? Сладко ли спалось пламенной Маргарите, или же к ней приходил предзимний кошмар, суккуб с членами ледяными как ружейные стволы? Этого в школе не рассказывают, там вообще ничему важному не учат, – ни слова, например, о конструировании и размножении снов, а между тем, есть сон, в котором Маргарита, увидев, в свою очередь, другой сон, – какой, мне отсюда плохо видно, мешает угол дома, – тихо встает с лежанки, прихватив с собой подушку-думочку, – небольшую, размером как раз с лицо, тихо входит к похрапывающему, жуткому своему гостю и во имя всех живых и теплых, невинных и нежных, ни о чем не подозревающих, во имя будущего, во имя вечности плотно накладывает плотную, жесткую, бисерными розами вышитую подушечку на рыжеватое рыльце суккуба, на волосатые его дыхательные отверстия, насморочные воздуховоды, жевательную щель. Плотно-плотно накладывает, наваливается пламенным телом, ждет, пока щупальца и отростки, бьющиеся в воздухе, ослабеют и затихнут. И город спасен.
Никакие сны не проходят бесследно: от них всегда что-нибудь остается, только мы не знаем, чьи они. Когда на Литейном, в душном пекле лета, глаз ловит надпись на табличке в подворотне: «Каждый день – крокодилы, вараны, рептилии!» – что нужно об этом думать? Кто тут ворочался в портвейновом кошмаре, кто обирал зеленых чертей с рукава? Кто послал этот отчаянный крик и откуда – с привидевшейся Амазонки, с призрачного Нила, или с иных, безымянных рек, тайно связанных подземной связью с серыми невскими рукавами? И чем ему можно помочь?
Никому ничем нельзя помочь, разве что жить здесь, видеть свои собственные сны и развешивать их по утрам на просушку на балконных перилах, чтобы ветер разносил их, как мыльную пену, куда попало: на верхушки тополей, на крыши трамваев, на головы избранных, несущих, как заговорщики, белые флоксы – тайные знаки возрождения.
Смотри на обороте
Горячий майский день в Равенне, маленьком итальянском городке, где похоронен Данте. Когда-то – в самом начале пятого века Р. X. – император Гонорий перенес сюда столицу Западной Римской Империи. Когда-то здесь был порт, но море давно и далеко отступило, и его место заняли болота, розы, пыль и виноград. Равенна знаменита своими мозаиками, и толпы туристов передвигаются из одного храма в другой, чтобы, задирая головы, рассмотреть тускловатый блеск мелкой разноцветной смальты там, высоко, под сумеречными сводами. Что-то видно, но не очень хорошо. На глянцевых открытках видно лучше, но очень уж ярко, плоско и дешево.
Мне душно, жарко, пыльно. Мне смутно на душе. Мой отец умер, а я его так любила! Когда-то, давным-давно, лет сорок назад, мимоходом, он был здесь, в Равенне, и прислал мне отсюда открытку с изображением одной из знаменитых мозаик. На обороте надпись – почему-то карандашом, видимо, впопыхах: «Дочка! Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел! Плакать хочется! Ах, если бы ты была здесь! Твой отец!»
Каждая фраза заканчивается дурацким восклицательным знаком – он был молодой, он был веселый, может быть, он выпил вина. Я вижу его в заломленной на затылок фетровой шляпе – по моде конца пятидесятых годов, с сигаретой в белых, тогда еще собственных, зубах, с мелкими капельками пота на лбу, – высокий, стройный, красивый; глаза его счастливо сияют под круглыми стеклышками очков… На открытке, которую он бросил в почтовый ящик, легкомысленно доверив ее двум ненадежным почтам – итальянской и русской, – рай. Господь сидит посреди ослепительно зеленого, вечно весеннего рая, вокруг него пасутся белые овечки. Две ненадежные почты, русская и итальянская, обломили и затрепали углы открытки, но ничего, послание получено, все в общем-то можно разглядеть.
Если рай существует, то отец там. Где же ему еще быть? Вот только он умер, умер, и больше не пишет мне открыток с восклицательными знаками, больше не посылает весточек из всех точек земли: я тут, я тебя люблю, любишь ли ты меня? радуешься ли вместе со мной? видишь ли ту красоту, которую я сейчас вижу? привет тебе! вот открытка! вот дешевая, глянцевая фотография – я тут был! тут замечательно! ах, если бы и ты могла тоже!
Он объездил весь мир, и мир понравился ему.
Теперь я, по мере возможности, иду по его следам, еду в те города, где он был, и пытаюсь увидеть их его глазами, пытаюсь представить себе его, молодого, заворачивающего за угол, поднимающегося по ступеням, облокотившегося на парапет набережной с сигаретой в зубах. Вот сейчас я в Равенне, пыльной, душной, утомительной, как все туристские места, с толпами на узких улочках. Мертвый, суетный, жаркий город, и негде присесть. Могила Данте, изгнанного из родной Флоренции. Могила Теодориха. Мавзолей Галлы Плацидии, сестры Гонория, того самого, что сделал Равенну столицей Империи. Прошло пятнадцать столетий. Все переменилось. Все запылилось, мозаика осыпалась. То, что было некогда важно, – стало неважно, то, что волновало, – ушло в песок. Само море ушло, и на месте, где плескались веселые зеленые волны, теперь пустоши, пыль, безмолвие, горячие виноградные плантации. Сорок лет назад – жизнь назад – мой отец ходил и смеялся тут, и щурил близорукие глаза, и присаживался за уличные столики, и пил красное вино, и откусывал пиццу собственными, крепкими зубами. И спускалась синяя ночь. И на краешке стола, карандашом, он писал мне торопливые слова своего восторга и любви к этому миру, расставляя как попало восклицательные знаки.
Душное облачное небо. Жарко, но солнца не видно. Пыль. То, что некогда было морским дном, теперь лежит вокруг городка широкими плодородными полями; там, где ползали крабы, теперь ходят ослы, на месте водорослей разрослись розы. Все умерло и заглохло, и по некогда блистательной столице Западного мира бродят разочарованные американские туристки в розовых распашонках, недовольные тем, что их опять обмануло туристское бюро: в этой Европе все такое мелкое, такое маленькое, такое старое! Пятнадцать столетий. Могила Данте. Могила Галлы Плацидии. Могила моего отца. Какой-то наивный зеленый рай на помятой открытке.
Что его здесь так поразило? Я нахожу нужный храм, я смотрю наверх – да, что-то зеленое, там, высоко под сводом. Белые овцы на зеленом лугу. Обыденный, тускловатый свет. Разноголосый говор туристов внизу. Показывают пальцами, ищут пояснения в путеводителях. Такой-то век, такое-то искусство. Все как всюду, как всегда. Плохо видно.
В каждом итальянском храме на стене висит коробка для денег – дополнительная услуга для интересующихся. Если опустить туда триста лир – четверть доллара, – то на несколько мгновений под потолком загораются яркие прожекторы, освещая свежим белым светом камешки мозаичного узора. Краски становятся ярче. Видны детали. Толпа возбуждается, и гул ее становится громче. Всего лишь четверть доллара. Все равно ведь вы приехали сюда издалека, заплатили за самолет, за поезд, за гостиницу, за пиццу, за прохладительные напитки, за кофе. Вам что, жалко еще нескольких центов?.. Но многим жалко. Они недовольны: их не предупреждали. Они хотят видеть рай даром. Кучка туристов ждет, пока кто-нибудь один, щедрый и нетерпеливый, опустит монетку в прорезь жульнического итальянского аппарата – все итальянцы жулики, правда ведь? – и тогда вспыхнут прожекторы, и на короткий, недостаточный для человеческого глаза миг рай станет зеленее, овцы – невиннее, Господь – добрее. Толпа рокочет громче… – но свет гаснет, и гул разочарованных туристов на миг складывается в ропот протеста, в ворчание жадности, в шепот разочарования. И опять все подернуто сумраком.
Я бреду из церкви в церковь вместе с толпой, слушаю приглушенный разноязыкий говор, похожий на морской шум, меня крутит в медленных людских водоворотах, мелькают бессмысленные усталые лица – такие же бессмысленные, как мое, – блестят стекла очков, шуршат страницы путеводителей. Я протискиваюсь в узкие двери храмов, стараясь оттеснить ближнего, стараясь, так же, как и каждый, занять место получше, стараясь не очень раздражаться. Ведь если рай и правда существует, – думаю я, – то войду я в него вместе с такой же, точно такой же толпой овец, толпой людей – старых, неумных, жадноватых. Ибо если рай не для нас, то для кого же, интересно знать? Разве есть другие, особенные, те, что заметно лучше нас, обычных, среднестатистических?
Нету их, и очень может статься, что брести по зеленым лугам мне придется в стаде американских туристов, недовольных тем, что тут все такое древнее и невысокое. А если это так, то это значит, что в раю – скучно и плохо, чего быть не должно по определению. В раю должно быть изумительно прекрасно.
«Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел!» – написал мне отец. Смотрю на обороте. Обычный рай. Что же он видел такого, чего я не вижу?
Вместе с толпой я втискиваюсь в маленькое здание, о котором русский путешественник начала века, Павел Муратов, написал в свое время в знаменитой книге «Образы Италии»:
«Необычайно и как-то непостижимо глубок очень темный синий цвет на потолке Мавзолея Галлы Плацидии. В зависимости от игры света, проникающего сюда через маленькие оконца, он изумительно и неожиданно прекрасно переливает то зеленоватыми, то лиловыми, то багряными оттенками. На этот фон положено знаменитое изображение юного Доброго пастыря, сидящего среди белоснежных овец. Полукруги у окон украшает крупный орнамент с оленями, пьющими из источника. Гирлянды листьев и плодов вьются по низеньким аркам. При виде их великолепия невольно думается, что человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен. И здесь благодаря крохотным размерам надгробной часовни мозаика не кажется делом суетной и холодной пышности. Сияющий синим огнем воздух, которым окружен саркофаг, некогда содержавший набальзамированное тело императрицы, достоин быть мечтой пламенно-религиозного воображения. Не к этому ли стремились, только другим путем, художники цветных стекол в готических соборах?»
Чудные слова! Но, протиснувшись в часовню, я ничего не вижу. Может быть, для Муратова в свое время проводник освещал храм факелом, но сейчас здесь попросту темно, и тот скупой свет, что еле-еле проникает из окон, заслонен спинами туристов. Толпа стоит плотно и упрямо, локоть к локтю. Надо бросать монеты в осветительную коробку, но никто не торопится, каждый ждет, что это сделает кто-нибудь другой. Я тоже не спешу. «Я уже много раз бросала, – внутренне оправдываюсь я, – пусть теперь другие». Проходит минута в душной тьме. Другая минута. «Не уступлю», – думает каждый. Тьма давит на голову. Пахнет мышами, плесенью, и еще чем-то очень старым, – как если бы так пахло само время. Потом проступают людские запахи – стареющей плоти, духов, мятных таблеток, пота, табака. Вот так будет сразу после смерти: темнота, чье-то дыхание и сопение в темноте, жара, ожидание, неуловимая неприязнь к попутчикам, вежливая решимость эту неприязнь не показывать, маленький эгоизм, упрямство, надежда, сомнение. Зал ожидания на пути в рай – куда же еще? «Ничего прекраснее (смотри на обороте) я в жизни своей не видел! Плакать хочется!» – написал отец из рая.
Наконец раздается характерный щелчок – кто-то все же решился, и, как и прежде, на несколько мгновений зажигается свет. На кратчайший миг – глаз не успевает охватить потолок, глаз мечется, – на кратчайший миг тупая и жаркая тьма над головой внезапно становится звездным небом, темно-синим куполом с огромными, переливающимися, близко приближенными к глазам звездами. «А-аххх!» – раздается внизу, и свет гаснет, и снова тьма, еще темнее прежней. И снова щелчок, и снова фантастические, разноцветные звезды, словно крутящиеся колеса, и тот самый «горящий синим огнем воздух» – секундное видение, – и снова мрак. И опять звяканье падающей монетки, опять щелчок, – дивное видение, не уходи, побудь с нами! – и опять удар темноты. Как заколдованная стоит толпа грешников, подняв вверх лица. Во тьме открылся путь, дано обещание, предъявлено доказательство, все будут спасены, не надо никаких объяснений – волшебная синяя бездна, воздвигнутая над нами безымянными художниками, сама говорит, поет на языке без слов. Синева стекает вниз, к корзинам с плодами и листьями… все исчезает, но снова и снова вспыхивает свет, и праздник становится бесконечным, и вот-вот раздастся пение ангелов. Да будет свет!
Я осторожно протискиваюсь сквозь толпу, я хочу посмотреть украдкой на того ненасытного, что устроил фейерверк, раздвигая светом стены гробницы. Он сидит в инвалидном кресле, опустив лицо. На коленях у него коробка с монетами. Он нашаривает монету рукой, пропихивает ее в щель автомата, и в короткое мгновение, пока синева переливает лиловым и багряным огнем, женщина-поводырь торопливо шепчет ему на ухо слова, которых я не слышу, да и услышав, не пойму: этот язык мне неизвестен.
Этот человек – слепой. У него замкнутое и терпеливое лицо, как у всех слепых, веки сомкнуты, голова опущена, ухо он склонил к своей спутнице. Кто она ему – дочь, или жена, или просто нанятая для путешествия компаньонка? Он слушает ее шепот и изредка коротко кивает головой: да. Да. Он хочет слушать еще, он кидает монету за монетой. Он бросает монеты в темноту, и из темноты раздается голос, который рассказывает, как умеет, о великом утешении красотой.
Он дослушал, и кивнул, и улыбнулся, и женщина, ловко управляясь в толпе с инвалидным креслом, развернула его и выкатила из Мавзолея. На них смотрели: ему было все равно, а ей, должно быть, привычно. Кресло запрыгало по мощенной камнями площади, причиняя мелкие дополнительные муки сидящему. Из тучи покапал дождь, но сразу перестал.
«Смотри на обороте»! Но на обороте ничего нет, на обороте лишь темнота, жара, молчание, раздражение, сомнение, уныние. На обороте – затертое от старости изображение чего-то, что было важно давным-давно, но не для меня. «Плакать хочется», – писал отец сорок лет назад о красоте, поразившей его тогда (и может быть, о чем-то большем), мне же хочется плакать, потому что его больше нет, и я не знаю, куда он ушел, и от него осталась только гора бумаг, и вот эта открытка с зеленым раем, которую я перекладывала, как закладку, из книги в книгу.
Но, может быть, все не так, может быть, все было задумано давным-давно, и все шло по плану, и отозвалось только сегодня? Неизвестному византийскому мастеру, одухотворенному верой, представилась красота Господнего сада. Как мог, он выразил ее на своем языке, может быть, досадуя, что не хватает сил на большее. Прошли века, мой отец приехал в Равенну, поднял голову, увидел изображение Эдема, купил дешевенькое изображение его изображения, с любовью послал мне его, подкрепив для верности восклицательными знаками – каждый выбирает свой язык. И если бы он ее не послал, я не приехала бы сюда, не пришла в темную часовню, не встретила слепого, не увидела бы, как по мановению его руки на обороте тьмы вспыхивает синий свет райского преддверия.
Ибо мы так же слепы, нет, мы в тысячу раз более слепы, чем этот старый человек в коляске. Нам шепчут, но мы затыкаем уши, нам показывают, но мы отворачиваемся. У нас нет веры: мы боимся поверить, потому что боимся, что нас обманут. Мы уверены, что мы – в гробнице. Мы точно знаем, что во тьме ничего нет. Во тьме ничего быть не может.
А они удаляются по узким улочкам маленького мертвого города, и женщина толкает коляску, и что-то говорит, склоняясь к уху слепого, и запинается, наверное, и подбирает слова, какие мне никогда не подобрать. Он смеется чему-то, и она поправляет его завернувшийся воротник, она подсыпает монет в коробку на его коленях, она заходит в таверну и выносит ему кусок пиццы, и он ест, благодарно, старательно и неряшливо, нашаривая в темноте рукой невидимую и чудесную еду.
Любовь и море
В чеховском рассказе «Дама с собачкой» есть загадочный пассаж.
«В Ореанде [они] сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, который ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалось такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки – моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве».









