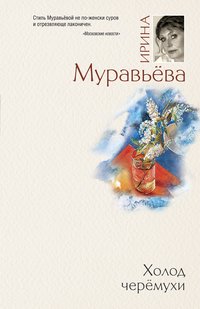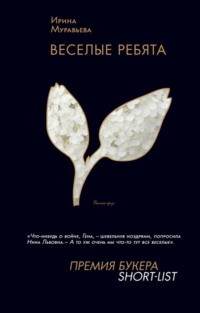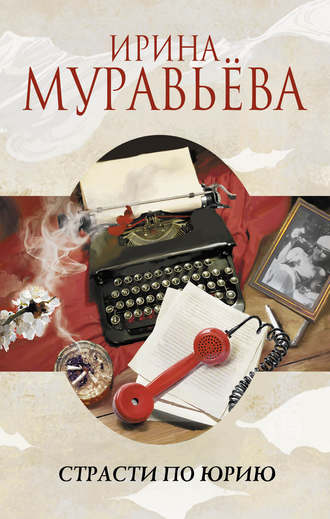
Полная версия
Страсти по Юрию
С самого начала Владимиров старался не лгать. Но обстоятельства последнего времени складывались так, что избежать вранья никак не удавалось: если его не ловили на обмане внутри семьи, не намекали ему на его измену, как это только что сделала Катя, то нужно было врать там, куда его дважды уже вызывали, требуя объяснений. Он не лгал, когда на вопрос, как оказалась на Западе его рукопись, отвечал, что не знает. До вчерашнего дня он действительно не знал, но вчера ему прямо сказали, кто именно это сделал, и теперь, чтобы заслонить мальчишку, который передал его рукопись английскому журналисту, нужно будет продолжать упираться и разыгрывать из себя дурачка. Та ненависть к власти, которая сейчас разбушевалась в нем, не была неожиданностью, хотя прежде он ее никак не проявлял: она была частью души и стояла внутри неподвижно, как лес подо льдом. Он знал, что замерзнет, но все же тянул до последней минуты. Покаих терпенье не кончилось. Сажать не сажали, ссылать не ссылали, но выдавливали его, как, бывает, простой человек выдавливает чирей из-под кожи, захватывая его своими неумелыми пальцами.
Дверь в кабинет была закрыта, но Арина и Катя так громко разговаривали в коридоре, что он в конце концов перестал работать и прислушался.
– А я говорю, что сейчас ты никуда не пойдешь! – кричала жена. – Мы и так по уши в дерьме, зачем же еще добавлять?
– Что изменилось со вторника, когда ты не вмешивалась? – голосом, очень похожим на материнский, возражала дочь.
– Во вторник к тебе еще не подослали стукача и не было этого письма, которое твой отец…
Значит, они уже знают о письме. Он встал и вышел в коридор.
– Что у вас тут?
Он спросил негромко, но с той привычной властной интонацией, которая прежде давала им понять, что его работа требует тишины. Сейчас этот тон был нелепым.
Ни дочь, ни жена ничего не сказали.
– Катюша, куда ты идешь?
Катя насмешливо усмехнулась, взяла с подзеркальника сумку.
– Куда ты? – спросил он смущенно. – Почти уже ночь.
– Ну и что?
Арина махнула рукой и ушла на кухню. Катя застегивала молнию на сапогах, молния скрежетала и не поддавалась. В конце концов она так и оставила один сапог застегнутым до половины, исподлобья блеснула на отца глазами и хлопнула дверью.
Арина, жена, была рядом, и можно было спросить у нее, куда это на ночь глядя отправилась дочь, но он ничего не спросил, а опять вернулся к себе и сел за стол. Телефонных аппаратов в их большой квартире было два: у него в кабинете и на кухне, где Арина, чтобы не мешать ни ему, ни Кате, устроила себе маленькое пестрое царство: здесь цвели ее цветы на подоконнике, висел шкафчик с хохломой, стоял ярко начищенный самовар, который Владимирову подарили в Туле, когда он выступал там в городской библиотеке.
Телефон зазвонил, и они одновременно сняли трубки.
– Юра, включи радио, – пробормотал окающий бас Валерки Семенова. – Опять твое письмо читают.
Владимиров положил трубку на рычаг и пошел на кухню. Жена стояла спиной к нему.
– А я что могу? – вдруг громко и злобно вскричала она. – Ты с ним говори, не со мной!
Она обернулась на звук его шагов: лицо у нее пылало, и голубые глаза были точь-в-точь похожи на глаза только что пойманного зверя, какими они бывают в первые минуты неволи.
– Да, я уж включила, – сказала Арина Семенову. – Сейчас только громкость прибавлю.
«…нельзя закрывать глаза на то, – голос диктора так взволнованно выговаривал каждое слово, словно он был соавтором владимирского письма, – что дело писателя в той стране, которую я продолжаю чувствовать своей Родиной, далеко выходит за рамки его художественного творчества, поскольку ограничения, которые испытывает в моей стране писатель, не позволяют ему сосредоточиться на своем творчестве, что было бы естественным, а заставляют…»
Ударом ладони жена выключила радио, и диктор замолк, как будто бы этим ударом она ему выбила сразу все зубы.
– Скажи: ну зачем?
– Что значит «зачем»? – он сморщился. – Больше не мог.
– Другие же могут!
Жена опустилась на стул, прижала ладони ко рту, но тут же отдернула их. Лицо ее показалось Владимирову сильно подурневшим и как будто оплывшим.
– Хитрить научился, – сказала жена. – Уж все говорят мне про эту циркачку, а ты все молчишь!
Он не понял, почему она назвала Варвару циркачкой, но быстро догадался: первый муж Варвары, за которого она выскочила сразу после школы, был клоуном в цирке. Арина все знает, и даже про клоуна.
– Прости, что я скрыл от тебя.
– Вот это по-твоему! – вся огненно-красная, закричала жена и обеими руками разом подняла кверху свои кудрявые поседевшие волосы. – Вот так ты всегда отвечаешь! Не за то прости, что предал, а за то, что раньше не поставил в известность!
Она уронила руки, и волосы ее с размаху упали обратно на плечи, как будто они тоже крикнули что-то.
– Мне гадко. – Арина сглотнула слюну. – Так гадко, ты даже представить не можешь. Тошнит меня ото всего.
Владимиров опустился на табуретку и налил себе холодной заварки в красную керамическую чашку.
– Что у тебя руки-то так дрожат? – вдруг быстро спросила Арина. – Смотри! Так прихватит – своих не узнаешь!
– Давай мы об этом не будем…
– Давай мы не будем. Давай разводиться. Как можно быстрее.
Много месяцев он готовил себя к тому, чтобы сказать ей о разводе, а сейчас, когда она сама заговорила об этом, Владимиров остолбенел.
– Ну что же ты так удивляешься, Господи! – вскричала она. – Что мы, первые, что ли? А ты вот ввязался в дурную игру! В опасную, Юра!
Владимиров опустил глаза.Этогоон как раз и ждал от нее.
– Ты думаешь, что я за славой погнался?
– За бабой погнался ты, а не за славой! А все остальное само подоспело!
– Постой… Объясни! Ты про это письмо? При чем здесьона?
–Она? – повторила Арина. – Она ни при чем. Зачем ты, дурак, влез в политику? Какой из тебя диссидент? Все передеретесь, все переругаетесь, и этим все кончится! Вся ваша смелость! Ты на Барановича, Баранович на Солженицына, Солженицын на Винявского – да что говорить! А главное, будет ведь не до работы! Ведь ты ничего не успеешь же, Юра! Одни только письма и будешь строчить!
Он почувствовал в ее словах правду, но не это перевернуло его сейчас. Он понял, что жизнь их закончилась. Часы, честно отсчитывающие его время с Ариной, остановились, и наступила такая тишина, такое безмолвие вдруг наступило, что даже в природе такого не встретишь. Это только казалось, что он потерял ее из-за Варвары, которая заняла ее место. Ее места не занял никто. Она и Варвара находились по разные стороны души и не сообщались между собой, потому что жизнь с Ариной была в сосуде одного времени, а жизнь с Варварой – другого.
– Когда же ты хочешь со мной разводиться? – спросил он.
– Как можно быстрей, – прошептала Арина. – Пока ты еще что не выкинул… А то ведь на площадь пойдешь…
– А этих людей ты за что поливаешь? Они ведь собой рисковали…
Арина не дала ему договорить.
– Собой рисковали? Скажите на милость! Кто это себе такую роскошь может позволить: собой рисковать? Тот, кто ни за кого другого не отвечает! А это ведь люди с детьми! С малолетними! И им их не жалко! Давай мы не будем о них говорить, об этих героях. – Она перевела дыхание. – А ты, кстати, не знаешь, почему Солженицын не вышел тогда же на площадь? А почему он за Синявского с Даниэлем не заступился? Не знаешь? А хочешь, скажу? Потому что ему тогда не нужны были лишние неприятности, он книжку дописывал, очень все просто! И академик наш тоже не в монастырь пошел водородную бомбу замаливать, а сразу туда, где пожарче, где бьют барабаны! В тени не привыкли сидеть. И тихого дела не знают, не ведают.
– Вещаешь ты, как протопоп Аввакум… Ребенка с водой сейчас выплеснешь.
Арина быстро посмотрела на него.
– Ребенка не я, Юра, ты его выплеснул. Она тебе про стукача рассказала?
Он молча кивнул.
– Ну, видишь… – вздохнула Арина. – Тебе, Юра, лучше уехать из дому. Нельзя тебе жить сейчас с нами, не нужно.
Он ждал, что она это скажет, но, увидев, как Арина неестественно выгнула шею, словно последние слова причинили ей физическую боль, весь сжался внутри.
– Прошу тебя, Юра, – сказала жена. – Дай ей доучиться спокойно. Она уж и так комок нервов.
– Откажетесь вы от меня? – спросил он чуть слышно.
Она промолчала, потом опустила голову и, стараясь случайно не задеть его своим телом, ушла в спальню.
Владимиров допил холодный чай из красной керамической чашки, потом вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Открыл холодильник, увидел вареную картошку в кастрюле, сел на корточки и начал жадно есть ее обеими руками, обмакивая куски в солонку, которую поставил прямо на пол. Изнутри головы сильно давило на глаза, поэтому он погасил свет, сидел в темноте. Потом пошел спать, чувствуя, что не заснет ни на секунду, но заснул сразу же, как только, не раздеваясь, свалился на узкий и неудобный диван в своем кабинете. Его разбудили какие-то звуки. Со сна ему показалось, что в доме щенок, который скулит. Он встал и в наброшенном на майку пиджаке вышел в коридор. Звуки, похожие на щенячий скулеж, вырывались из спальни. Владимиров открыл дверь. Арина, голая, в одном белом лифчике, сидела на кровати и, обхватив голову обеими руками, плакала, скулила и взвизгивала так, как это делают щенки, только что оторванные от матери.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.