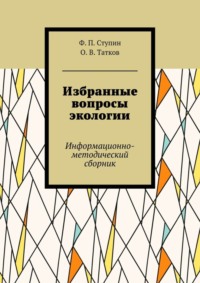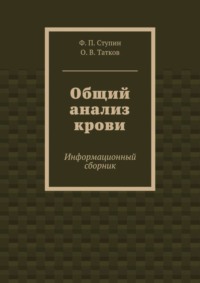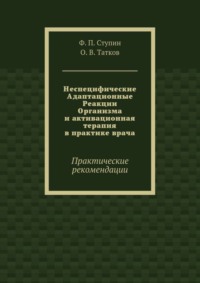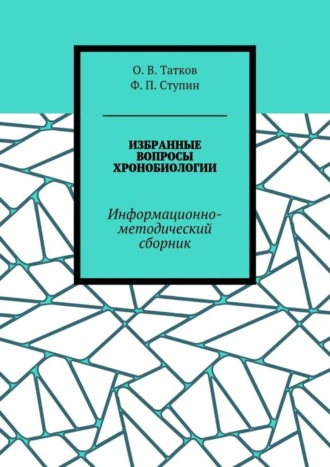
Полная версия
Избранные вопросы хронобиологии. Информационно-методический сборник
У людей (и у других млекопитающих) есть еще один «маркер фазы», и его легко наблюдать даже в домашних условиях. Известно, что из всех живых существ по-настоящему спят только млекопитающие и птицы. Рептилиям и амфибиям ночной покой задан иначе и более жестко: после захода солнца падает температура тела и замедляются все процессы – только и остается, что дремать. () Сон с его характерными физиологическими особенностями, очевидно, возник в ходе эволюции вместе с теплокровностью. Но своего рода рудиментом, подарком на память от пращуров-рептилий, остался у нас температурный суточный ритм. Температура нашего тела не так уж стабильна: мы засыпаем, когда она снижается (пройдя максимум около шести вечера), и просыпаемся, когда она идет вверх (минимум наблюдается около пяти утра.
Считается, что температурный ритм отражает истинный внутренний ритм: даже если человек не заснет в полночь, он все равно похолодеет на несколько десятых градуса. Недаром мы стараемся тепло укрыться во время сна, а одна из самых частых жалоб у страдающих бессонницей – «холодно, стынут ноги, не могу согреться». По мнению доктора мед. наук М. Берёзкина: «Терморегуляция является интегральной системой и отражает целостность и иерархичность «циркадианной системы человека», поэтому нарушения в закономерности характера структуры суточного ритма температуры можно рассматривать как свидетельство возможного развития десинхроноза», а «…характер суточного ритма пульса (как более лабильного показателя) и температуры (стабильный интегральный показатель, отражающий сохранность циркадианной системы человека) в корреляции с хронотипом и с субъективными ощущениями может служить критерием адаптивности конкретного индивида…». 1 Но температурный ритм сдвигается и в случае принудительной подстройки фазы, например когда человек переходит работать в ночную смену или сутки через трое. Долгое время считалось, что ничего страшного в этом нет: за трое-то суток человек найдет, когда отоспаться, – однако американские специалисты по организации труда говорят прямо: «История ночных смен – это история аварий». () () 4 Как утверждает Перетц Леви, директор Лаборатории сна в Израильском институте технологии в Хайфе, по меньшей мере, одна восьмая часть человечества для ночных работ непригодна в принципе. И это не только страдающие мигренями и психосоматическими расстройствами, но также люди с трудно сдвигаемым временем сна и «жаворонки». Ночью они недееспособны, и сажать их на дежурство – себе дороже. Е. Клещенко, 1999 г.
Помимо околосуточного циркадианного ритма, всю нашу жизнь пронизывает полуторачасовой диурнальный ритм, определяющий днем чередование сонливости и бодрости, голода и жажды, а ночью – смену фаз сна: медленного (обычного) и сна парадоксального – сна со сновидениями. () Само открытие парадоксального сна (или, как его назвали авторы открытия, сна с быстрыми движениями глаз) сделал американец Натаниэль Клейтман в середине 50-х годов ХХ века. ( Фаза медленного сна и следующая за ней фаза парадоксального сна формируют цикл сна с периодом около 1,5 часа, и нормальный ночной сон состоит из четырех – шести таких циклов. Однако, Клейтман сделал только первый шаг: согласно его точке зрения, сон – это единый процесс, а парадоксальный сон – отражение всего лишь периодического вторжения механизмов бодрствования внутрь самого процесса сна.
Понадобился еще один ученый, который, поняв, что же именно открыл Клейтман, создал в 60-е годы прошлого века новую парадигму в науке о сне. Это француз Мишель Жуве, главное положение концепции которого гласит: парадоксальный сон – это не классический сон и не бодрствование, а особое, третье состояние организма. Оно характеризуется действительно парадоксальным сочетанием: мозг – активен, а мышцы – расслаблены. Это как бы активное бодрствование, направленное не на внешнюю деятельность, а внутрь. Жуве пришел к выводу, что основной биохимический агент, ответственный за регуляцию сна в мозге млекопитающих, – это нейромедиатор 5-окситриптамин (серотонин), продукт превращений аминокислоты тирозина, но не он один.
) Концепция биохимической регуляции сна – бодрствования, в центре которой – норадреналин (регулятор бодрствования), серотонин (регулятор медленного сна) и ацетилхолин (регулятор парадоксального сна), была опубликована Жуве в журнале «Science» в 1969 году. Если сравнить эту концепцию с высказыванием Аристотеля: «Сон же, по-видимому, принадлежит по своей природе к такого рода состояниям, как, например, пограничное между жизнью и не жизнью, и спящий ни не существует вполне, ни существует…», то легко проследить всю эволюцию представлений человечества о природе сна за два с половиной тысячелетия: от уверенности в том, что сон – это некое маргинальное состояние, пограничное между жизнью и смертью, до осознания, что сон, по сути, квинтэссенция жизненных процессов в мозге. 5
У человека, в отличие от других млекопитающих, циклы сна неодинаковы: в первых ночных циклах преобладает глубокий, медленный сон, а периоды парадоксального сна очень короткие (10—15 минут) и внешне слабо выражены. А вот во вторую половину ночи, наоборот, глубокий сон почти отсутствует, зато отмечаются чрезвычайно интенсивные и длительные, по 30 – 40 минут, периоды парадоксального сна. Это – следствие адаптации человека к условиям цивилизации. Ведь фактически каждые сутки нашей жизни представляют собой 16-часовой период лишения сна, за которым следует 8-часовой период восстановительного сна («отдача»). И вот по этому закону отдачи вначале всегда восстанавливается глубокий, медленный сон, а уж затем – парадоксальный. () Можно в итоге постулировать следующее: в состоянии медленного сна переработка информации мозгом не прекращается, а изменяется: от обработки экстероцептивной (внешней) информации мозг переходит к интероцептивной (внутренней) импульсации и ее обработке. А в парадоксальном сне все по-другому. Он«запускается» из четко очерченного центра, расположенного в задней части мозга, в области варолиева моста. Во время парадоксального сна клетки мозга чрезвычайно активны, однако информация от «входов» к ним не поступает и на «выходы» не подается. Вот в этом-то и заключается парадоксальный характер состояния, отраженный в его названии. В эти периоды происходит интенсивная переработка той информации, которая была получена в предшествующем бодрствовании и теперь хранится в памяти. Попеременное вовлечение тех или иных нейронных систем и их переключение, определяющее наступление и циклическое чередование обеих фаз сна – медленного и парадоксального, происходит при помощи регуляторных пептидов, эволюционно древних передатчиков, широко распространенных в мозгу и в организме в целом. () Если бы мы жили в условиях естественных, природных, то там бы нам, взрослым людям, требовались один – два периода дневного сна, помимо ночного. С этим явлением – невозможностью следовать природному ритму – связаны характерные для современного человека спонтанные приступы дневной сонливости, рассеянности, расслабленности. Подобные приступы приурочены к определенным часам до и после полудня и особенно опасны при вождении автомобиля и выполнении некоторых ответственных профессиональных обязанностей. Гипотеза о том, что некоторые пептиды могут играть ключевую роль в регуляции сна, возникла еще в конце 70-х годов, когда группе исследователей из США (Дж. Паппенхаймеру, Дж. Крюгеру и другим) удалось выделить 30 микрограммов вещества, «вызывающего сон», из 14 тысяч кроличьих мозгов и 4 тонн человеческой мочи. Это вещество оказалось мурамилпептидом. Подобные пептиды синтезируются ферментативным путем в клетках бактерий и представляют собой мономерные «строительные блоки», формирующие пептидогликан – каркас клеточной стенки грамположительных бактерий. В организме млекопитающих мурамилпептиды появляются в результате жизнедеятельности кишечных бактерий либо в случае инфекции. Из-за некоторых особенностей своей структуры мурамилпептиды чрезвычайно устойчивы к разрушению в организме млекопитающих; они способны проникать в мозг и оказывать в весьма малых дозах мощные воздействия на различные процессы в организме. Эти воздействия можно разделить на два типа: кратковременные и длительные – длящиеся сутками и неделями, связаны с выработкой иммунитета. А кратковременные, собственно физиологические процессы, – это воздействие на систему «сон – бодрствование», а также на температуру тела. (органов чувств) (мышечную систему)
Оказалось, что природные мурамилпептиды при введении в кровь или прямо в мозг уже в ничтожных дозах вызывают нарушения структуры сна (увеличение медленной и подавление парадоксальной фазы), а кроме того, и резкое повышение температуры тела. () () Вот и возникла такая мысль: а не играют ли эти самые «пептиды сна», которые вырабатываются болезнетворными микробами, важнейшую роль в возникновении хорошо известных в медицине симптомов при бактериальных инфекциях – повышенной сонливости, нарушения сна, лихорадки? И с другой стороны: те же самые мурамилпептиды, но попадающие в мозг из кишечника в результате жизнедеятельности «полезных» бактерий, могут вносить свой вклад в нормальную регуляцию сна. Оказалось, именно так. В. М. Ковальзон, 2000 г.
Тот факт, что всякий сон, в отсутствие каких-либо значительных внешних или внутренних стимулов, сопровождается, тем не менее, весьма существенным напряжением практически всех основных физиологических систем организма, общеизвестен. Особенно явным становится это напряжение при переходе от обычного сна к сновидениям. В это время происходит изменение вегетатики (меняются частота пульса, артериальное давление, частота дыхания, а также уровни глюкозы, катехоламинов, глюкокортикоидов). В связи с этим А. Борбели определил сон как одну из главных форм приспособления организма к условиям внутренней и внешней среды, т. е. посути речь идет об адаптации. Считается, что стрессовая, катаболическая фаза дня с интенсивным расходованием энергии, поступающей с пищей, и эндогенных продуктов обмена веществ в организме сменяется во сне анаболическим процессом, заключающимся в повышении в плазме во время сна концентраций анаболических гормонов (соматотропина и пролактина), реконструкции белковых структур, нуклеиновых кислот, запасания энергетически значимых соединений гликогена, жиров, аминокислот и др. Не случайно процент негативной и даже патологической информации в сновидениях гораздо больше, чем позитивной. Работа мозга именно с этим материалом, по-видимому, также носит для психики человека адаптационный характер – снижает психоэмоциональную нагрузку организма. Подтверждением этому служат депрессии, многочисленные неврозы, срывы высшей нервной деятельности при нарушениях сна, равно как и бессонница при депрессиях, неврозах. () А. Борбели, 1989 г., А. И. Бобков, А. С. Бобкова, 1997 г.
Практически у всех живых существ, – от простейших до человека – существуют периодические колебания, соответствующие приливно-отливному, лунному или годичному циклам. Эволюционно – циркануальные (окологодовые) ритмы создавали относительную гарантию выживания отдельных особей, видов и популяций различных животных в условиях сезонного изменения среды обитания. Сезонные ритмы – ритмы экологического плана. Они не являются абсолютно необходимыми для поддержания жизни, но создают относительную гарантию выживания в условиях постоянной среды обитания. Полагают, что механизм сезонных колебаний прежде всего обусловлен изменениями продолжительности светового дня. Фактор снижения температуры в средних и высоких широтах также является одним из наиболее существенных показателей среды. Живые организмы вынуждены сохранять постоянство температуры тела, а это достигается балансом теплоотдачи и теплообразования. Отмечаемый более высокий уровень артериального давления в зимнее время связан с повышением общего периферического сосудистого сопротивления и уровня норадреналина в плазме крови. Максимальная ЧСС, АД, сократительная функция миокарда и минутный объем кровообращения у здоровых людей также наблюдается в зимний период. () Именно окологодовая периодичность жизнедеятельности позволила растениям и животным широко расселиться на Земле и проникнуть во все климатические зоны. Окологодовые ритмы четко выражены у человека и проявляются изменениями уровня и амплитуды колебаний самых разнообразных физиологических и патологических процессов. Описаны сезонные колебания уровня АД, изменение чувствительности организма к различным лекарственным и токсическим веществам в зависимости от времени года. Сезонные изменения жизненных процессов соответствуют годичному ритму уровня активности целостного организма, поскольку большинство максимумов и минимумов сезонных ритмов приходится на февраль и август. Эти месяцы являются переломными точками направления фаз годовых биологических ритмов, т. е. биологический год делится февралем и августом на две половины, в пределах которых направление фаз годовых биологических ритмов взаимно противоположно. Наибольшее количество геомагнитных бурь и возмущений приходится на вторую половину солнечного цикла. Кроме того, геомагнитные возмущения и бури имеют строгую сезонную ритмику с максимумами в периоды равноденствия, то есть в переходные сезоны года. Календарный год подразделяют на биологические сезоны: биологической зимой можно считать тот период, который совпадает с минимумом кривой годичной активности, а биологическим летом – период максимума этой кривой. Биологическая весна характеризуется быстрым нарастанием уровня жизненной активности интенсивности обеспечивающих ее биологических процессов, а биологическая осень – такой же, но отрицательной динамикой. В этих случаях отмечаются и сезонные изменения общего иммунитета, различный уровень его физиологических функций (адаптации), сезонные особенности в возникновении, развитии и степени выраженности патологических проявлений.
Согласно данным, полученным И. Оранским и П. Царфис, после санаторно-курортного лечения весной и летом длительность сохранения положительного эффекта достигала 9—12 месяцев, а после аналогичного лечения осенью положительное действие сохранялось всего 1—3 месяца. Переносимость некоторых физиопроцедур лучше в начале лета, нежели осенью. Лучшая динамика синхронизации биоритмов на курорте наблюдалась в осенний сезон. () О том, что в ритмически меняющихся природных условиях бывают периоды, которые вызывают перенапряжение адаптивных систем, писал ещё И. В. Давыдовский. Если эти периоды совпадают с воздействием каких-либо болезнетворных факторов, организм оказывается особенно ранимым. Таким образом, сезонная перестройка организма может быть одним из важнейших патогенетических факторов обострения заболеваний. () И. Е. Оранский, П. Г. Царфис, 1989 г.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
цит. по С. 44. – Дердиященко А. А. – 1987 г.
2
цит. по Vertigo.ru от 29.08.2003 г.
3
цит. по С. 45. – Дердиященко А. А. – 1987 г., С. 88. – Арушанян Э. Б. – 1989 г.
4
цит. по С. 11. – «Медицинская газета». – №87 от 21 ноября 2003 г.
5
цит. по С. 26. – Ковальзон В. М. – 2000 г.