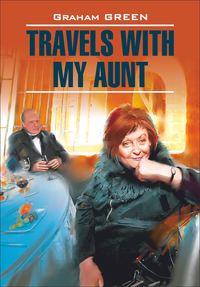Полная версия
Тихий американец

Грэм Грин
Тихий американец
Graham Greene
THE QUIET AMERICAN
Перевод с английского А. Кабалкина
Серийное оформление и компьютерный дизайн Е. Ферез
Печатается при содействии литературных агентств David Higham Associates и The Van Lear Agency LLC.
Серия «Эксклюзивная классика»
© Graham Greene, 1955, 1973
© Перевод. А. Кабалкин, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2019
* * *Дорогие Ренэ и Фуонг!
Я попросил разрешения посвятить эту книгу вам не только в память о счастливых вечерах, которые проводил с вами в Сайгоне последние пять лет, но и потому, что бессовестно позаимствовал адрес вашей квартиры, чтобы поселить там одного из моих героев, а еще ваше имя, Фуонг, ради удобства читателей, – ведь оно простое, красивое и легко произносится в отличие от многих имен ваших соотечественниц. Как вы оба увидите, этим заимствования почти исчерпываются, к ним никак не относятся персонажи, действующие во Вьетнаме. За образами Пайла, Грэнджера, Фаулера, Виго, Джо не скрывались реальные люди в Сайгоне или Ханое, а генерал Тхе мертв: говорят, его убили выстрелом в спину. Даже исторические события как минимум один раз поменялись местами. Например, большой взрыв у «Континенталя» произошел до взрывов велосипедных бомб, а не наоборот. Такие мелкие изменения меня не смущают. Это не исторический труд, а повесть о вымышленных людях, и, надеюсь, она поможет вам обоим скоротать жаркий сайгонский вечер.
Любящий васГрэм ГринЧасть первая
1
После ужина я ждал Пайла у себя на улице Катина. Он сказал: «Я буду у вас не позднее десяти». Когда наступила полночь, я не усидел и спустился на улицу. На лестничной площадке собрались старухи в черных штанах; был февраль, и им, наверное, надоело ворочаться в постелях в жару. В сторону реки медленно ехал велорикша; там, где разгружали новые американские самолеты, горели прожекторы. Пайла на всей длинной улице не оказалось.
Конечно, сказал я себе, что-то могло задержать его в американском представительстве, но в таком случае он обязательно позвонил бы в ресторан – Пайл был очень щепетилен по части соблюдения приличий. Я уже хотел вернуться, когда увидел у соседней двери девушку. Лица не различил, только белые шелковые шаровары и длинное цветастое платье, но все равно узнал ее. Она часто ждала моего возвращения именно в этом месте, в этот час.
– Фуонг, – произнес я. Это значит Феникс, но в наше время со сказками покончено, ничто уже не восстает из праха. Она еще ничего не успела сказать, но я догадался, что Фуонг тоже ждет Пайла. – Его нет.
– Je sais. Je t’ai vu seul a la fenetre[2].
– Если хочешь, можешь подняться, – предложил я. – Он скоро придет.
– Я подожду здесь.
– Лучше не надо. Тебя может забрать полиция.
Она пошла за мной наверх. Я перебирал в голове разные остроты и грубости, но Фуонг недостаточно знала английский и французский, чтобы понять иронию, да и мне, как ни странно, не хотелось делать больно ей и даже себе. Мы поднялись на лестничную площадку, и все старухи повернули к нам головы, а когда мы мимо них прошли, их голоса стали звучать громче, будто они хором затянули песню.
– О чем они говорят?
– Они думают, что я вернулась домой.
Деревце, которое я поставил у себя в комнате несколько недель назад в честь китайского Нового года, уже сбросило пожелтевшие листья, застрявшие теперь между клавишами пишущей машинки. Я стал вынимать их.
– Tu es troublé?[3] – спросила Фуонг.
– Это на него не похоже. Он такой пунктуальный.
Я снял галстук, разулся и растянулся на кровати. Фуонг зажгла газовую горелку и стала кипятить воду для чая. Прошедших шести месяцев как не бывало.
– Он говорит, ты скоро уедешь, – сказала она.
– Возможно.
– Он очень любит тебя.
– Спасибо ему – вот только за что? – пробурчал я.
Я видел, что Фуонг изменила прическу – теперь прямые черные волосы свободно падали на плечи. Я вспомнил, как однажды Пайл раскритиковал ее прежнюю прическу, которую, по ее мнению, полагалось носить дочери мандарина. Я зажмурился, и Фуонг снова стала прежней: шипением пара, звоном фарфора, заветным временем в ночи и обещанием покоя.
– Он скоро придет, – произнесла она, словно мне в его отсутствие требовалось утешение.
Я прикинул, о чем они могли разговаривать. Пайл был сама откровенность, он донимал меня своими лекциями о Дальнем Востоке, с которым был знаком столько же месяцев, сколько я – лет. Другой его темой являлась демократия: у него были четкие и раздражающие представления о том, что делают Соединенные Штаты ради остального мира. Зато Фуонг была восхитительно невежественна; если бы в разговоре упомянули Гитлера, она бы спросила, кто это. Объяснить ей это было бы тем более трудно, что Фуонг никогда не встречала ни немцев, ни поляков и имела самое смутное представление о европейской географии, хотя о принцессе Маргарет знала, понятное дело, больше, чем я. Я услышал, как она ставит поднос на край кровати.
– Он все еще тебя любит, Фуонг?
Вьетнамка у вас в постели сродни пташке: так же щебечет и заливается на вашей подушке. В свое время я думал, что ни одно пернатое не сравнится голосом с Фуонг. Я вытянул руку и дотронулся до ее локтя. Косточки у нее тоже были хрупкие, как у птички.
– Любит, Фуонг?
Она рассмеялась, я услышал, как она чиркает спичкой.
– Любит?
Возможно, это было одно из непонятных для нее слов.
– Сделать тебе трубку? – предложила она.
Когда я открыл глаза, Фуонг зажгла лампу. В свете лампы ее кожа напоминала цветом темный янтарь; она наклонилась над пламенем и сосредоточенно морщила лоб, грея опиумную пасту и вращая иглу.
– Пайл по-прежнему не курит? – спросил я.
– Нет.
– Ты бы его заставила, а то он не вернется.
У них было суеверие, что любовник, курящий опиум, обязательно вернется, даже из Франции. Пусть опиум влияет на мужскую силу, они всегда предпочтут верного любовника могучему. Сейчас Фуонг разминала шарик горячей пасты на отогнутой кромке чаши, и я вдыхал запах опиума. Другого такого запаха нет. Часы-будильник у моей кровати показывали 0.20, но я уже расслабился. Лампа осветила лицо Фуонг, когда она протянула мне длинную трубку, наклонившись над ней с серьезной сосредоточенностью, как над ребенком. Я был привязан к своей трубке: более двух футов прямого бамбука, с обоих концов слоновая кость. В двух третях длины трубки от меня находилась чаша, этакий повернутый кверху цветок вьюнка с отполированной и потемневшей от частого разминания опиума отогнутой кромкой. Легким движением она погрузила иглу в крохотное отверстие, извлекла опиум и расположила чашу над огнем, поддерживая для меня трубку. Бусина опиума тихонько пузырилась, а я вдыхал.
Опытный курильщик выкуривает целую трубку в один присест, мне же всегда требовалось несколько затяжек. Потом я откинулся затылком на кожаную подушечку, а она стала готовить вторую трубку.
– Пойми, это же ясно, как день, – произнес я. – Пайл знает, что перед сном я выкуриваю несколько трубок, и не хочет меня беспокоить. Утром он будет здесь.
Игла опять вошла внутрь, и я закурил вторую трубку. Отложив ее, я продолжил:
– Тревожиться не о чем. Совершенно не о чем. – Я отхлебнул чаю и задержал руку у Фуонг под мышкой. – Когда ты ушла, у меня осталось по крайней мере это. На улице д’Ормэ есть хорошая курильня. Сколько хлопот устраиваем мы, европейцы, на пустом месте. Напрасно ты живешь с мужчиной, который не курит.
– Но он собирается жениться на мне, – возразила она. – Уже скоро.
– Тогда, конечно, другое дело.
– Сделать тебе еще одну трубку?
– Да.
Я гадал, согласится ли Фуонг спать со мной этой ночью, если Пайл так и не придет, хотя знал, что после четырех трубок сам ее не захочу. Приятно было бы, спору нет, чувствовать рядом в постели бедро Фуонг – она всегда спала на спине – и, проснувшись утром, начать день с трубки, а не в одиночестве.
– Пайл уже не придет, – сказал я. – Останься, Фуонг.
Она протянула мне готовую трубку и покачала головой. Когда я выкурю и эту, меня перестанет волновать, осталась Фуонг или ушла.
– Почему Пайл не пришел? – спросила она.
– Откуда мне знать?
– Он ездил к генералу Тхе?
– Понятия не имею.
– Пайл сказал мне, что если не сможет поужинать с тобой, то не придет.
– Не переживай. Он придет. Сделай мне еще трубочку. – Когда она склонилась над пламенем, я вспомнил стихотворение Бодлера:
«Голубка моя…Умчимся в края,Где все, как и ты, совершенство…Взгляни на канал,Где флот задремал…»Я подумал, что если понюхать ее кожу, то у нее будет легкий аромат опиума, а цветом она будет как вот тот огонек… Я любовался, как распускаются цветы с платья, она была бесхитростна, как травинка, и мне очень не хотелось домой, в Англию.
– Жаль, что я не Пайл, – сказал я, но боль была ограниченной и терпимой – хвала опиуму. В дверь постучали.
– Это Пайл! – воскликнула Фуонг.
– Нет, он стучит не так.
Стук повторился, теперь нетерпеливо. Она вскочила, толкнув желтое деревце, и оно опять осыпало мою пишущую машинку своими лепестками. Дверь открылась.
– Мсье Фаулер! – раздался властный голос.
– Я Фаулер, – отозвался я, не собираясь вставать ради полицейского. Шорты цвета хаки мне были видны, даже если не поднимать головы.
Он объяснил на еле понятном вьетнамском французском, что мне надлежит немедленно – сразу, быстро! – явиться в Сюрте[4].
– Какая Сюрте – французская, вьетнамская?
– Французская. – У него прозвучало «франсунг».
– Зачем?
Этого он не знал: приказ был меня доставить.
– Toi aussi[5].
– Обращайтесь к даме на «вы», – сказал я. – Как вы узнали, что она здесь?
Он повторил, что у него приказ.
– Я приду утром.
– Нет, сейчас.
Спорить с этим мелким упрямцем было бесполезно. Я встал, надел галстук и обулся. За полицией здесь оставалось последнее слово: она могла лишить меня пропуска, перестать пускать на пресс-конференции, даже отказать мне при желании в праве выезда. И это еще меры в рамках закона, хотя в воюющей стране законность была не на высоте. Я знал человека, внезапно, необъяснимым образом лишившегося своего повара. Он добрался по его следам до вьетнамской Сюрте, но там его заверили, что повара допросили и отпустили. Родные больше его не видели. То ли он сбежал к коммунистам, то ли вступил в одну из частных армий, кишевших вокруг Сайгона, – хоа-хао, Каодай, генерала Тхе, то ли угодил во французскую тюрьму. Возможно, преспокойно зарабатывал на девочках в Чолоне – китайском пригороде. Или сердце не выдержало на допросе.
– Пешком не пойду, – предупредил я. – Оплатите мне рикшу. – Надо же как-то поддерживать свое достоинство.
По той же причине я отказался от сигареты, предложенной французским офицером в Сюрте. После трех трубок у меня в голове было кристально ясно, мозг мог легко принимать решения, не упуская из виду главный вопрос – чего им от меня надо? Мне случалось несколько раз встречать Виго в гостях – я обратил на него внимание, потому что он выглядел нелепо влюбленным в собственную жену – игнорировавшую его, вульгарную ненатуральную блондинку. Сейчас, в два часа ночи, Виго сидел, усталый и унылый, в сигаретном дыму, в гнетущей жаре, в зеленых очках на носу и с открытым томиком Паскаля на столе, позволявшим скоротать время. Когда я запретил допрашивать Фуонг без меня, он сразу сдал назад со вздохом, в котором слышалась усталость не то от Сайгона, не то от жары, не то от всего человечества.
– Простите, что пришлось попросить вас прийти, – сказал он по-английски.
– Это была не просьба, а приказ.
– Ох уж эти местные полицейские – они не понимают… – Виго не отрывал взгляда от «Мыслей», словно был пленен этой невеселой логикой. – Я хотел задать вам пару вопросов – о Пайле.
– Спросили бы его самого.
Он повернулся к Фуонг и резко спросил ее по-французски:
– Давно вы живете с мсье Пайлом?
– Месяц…
– Сколько он вам платит?
– У вас нет права спрашивать ее об этом, – заявил я. – Она не продается.
– Раньше она жила с вами, да? – спросил он так же резко. – Два года?
– Я – корреспондент, мне положено писать о вашей войне, когда вы позволяете. Не хватало снабжать материалами вашу бульварную газетенку!
– Что вам известно о Пайле? Пожалуйста, отвечайте на мои вопросы, мсье Фаулер. Я не хочу допрашивать вас, но все серьезно. Поверьте, очень серьезно.
– Я не осведомитель. Все, что я могу сказать вам о Пайле, вы и так знаете. Возраст – тридцать два года, сотрудник миссии экономической помощи, гражданство – американец.
– Послушать вас, вы его друг, – произнес Виго, глядя мимо меня, на Фуонг.
Вошел местный полицейский с тремя чашками черного кофе.
– Или вам чаю? – спросил Виго.
– Да, мы с ним друзья, – подтвердил я. – Почему нет? Ведь я рано или поздно уеду домой. Взять ее с собой не могу. С ним ей будет хорошо. Это разумное решение. Он обещает жениться на ней. Может, знаете ли. По-своему Пайл славный малый. Серьезный. Не то что эти крикливые болваны в «Континентале». Тихий американец. – Точное определение, не поспоришь, все равно что «синяя ящерица» или «белый слон».
– Да, – кивнул Виго. Казалось, он ищет перед собой на столе подсказку, как передать желаемый смысл так же четко, как сделал я. – Очень тихий американец.
Сидя в своем жарком кабинетике, Виго ждал, пока кто-нибудь из нас заговорит. Раздался атакующий писк комара. Я покосился на Фуонг. От опиума начинаешь быстрее соображать – наверное, он успокаивает нервы и подавляет эмоции. Ничто уже не кажется важным, даже смерть. Я подумал, что Фуонг не уловила в его тоне меланхолической окончательности, да и английский у нее был неважный. Сидя на твердом полицейском табурете, она продолжала терпеливо ждать Пайла. Я в тот момент ждать перестал и увидел, что то и другое не прошло мимо внимания Виго.
– Как вы с ним познакомились? – обратился он ко мне.
Зачем мне объяснять ему, что это Пайл познакомился со мной? Это было в прошлом сентябре, он направлялся через площадь к бару «Континенталя»; безошибочно юное, неопытное лицо летело в нас, как дротик. С этими его длинными худыми ногами, стрижкой «ежиком» и приветливым, вынесенным из университетского кампуса взглядом, Пайл казался безобиднейшим существом. Почти все столики на улице были заняты.
– Не возражаете? – обратился он ко мне вежливо и серьезно. – Меня зовут Пайл. Я здесь новенький. – Пайл сел на табурет и заказал пиво. Потом резко вскинул голову и уставился в безоблачное полуденное небо. – Это что – граната? – спросил он возбужденно и с надеждой.
– Скорее выхлопная труба, – ответил я и тут же раскаялся, что разочаровал его.
Мы быстро забываем собственную молодость: в свое время я тоже проявлял интерес к тому, что за неимением лучшего термина именуют новостями. Но на мне тема гранат выдохлась; теперь ей отводилось место лишь на последней странице местной газеты: столько-то взорвалось прошлой ночью в Сайгоне, столько-то в Чолоне; в европейскую прессу взрывы гранат никогда не попадали. По улице скользили милые плоские фигурки: белые шелковые шаровары, длинные узкие блузы в розовых и лиловых тонах с высоким разрезом на бедре. Я провожал их взглядом с той ностальгией, которую непременно буду испытывать, когда навсегда покину эти края.
– Они – прелесть, правда? – произнес я, отхлебывая пиво.
Пайл мельком взглянул на спины, удалявшиеся по улице Катина.
– Правда, конечно, – ответил он безразлично – серьезный малый! – Посланник очень озабочен этими гранатами. Боится, как бы не случилось несчастья – с кем-нибудь из нас.
– С кем-нибудь из вас? Да, полагаю, это было бы серьезно. Конгрессу такое не понравилось бы.
Зачем нас тянет дразнить простодушных? Наверное, еще дней десять назад Виго пересекал в Бостоне университетскую лужайку с большой стопкой книг – полезного чтения о Дальнем Востоке и проблемах Китая. Он меня даже не слышал, настолько глубоко погрузился в дилемму демократии и ответственности Запада. Был полон решимости – скоро я в этом убедился – нести добро, и не кому-то в отдельности, а стране, континенту, всему миру. Теперь он угодил в свою стихию, к его услугам была вся вселенная – улучшай сколько влезет.
– Он в морге? – спросил я.
– Как вы узнали, что он мертв? – Это был глупый вопрос для полицейского, недостойный читателя Паскаля, а также мужчины, любившего, как ни странно, свою жену. Нельзя любить, не имея интуиции.
– Я не виноват, – сказал я.
Я убеждал себя, что это правда. Разве Пайл не всегда поступал по-своему? Я искал в себе какое-нибудь чувство, хотя бы возмущение полицейским подозрением, но ничего не находил. Ответственность нес один Пайл, больше никто. «Не лучше ли всем нам умереть?» – рассуждал внутри у меня опиум. Сам я осторожно покосился на Фуонг: для нее это могло стать ударом. Наверное, она его по-своему любила: разве Фуонг не была привязана ко мне – и разве не ушла от меня к Пайлу? Привязалась к молодости, надежде, серьезности, а теперь все это подвело ее еще больше, чем возраст и отчаяние. Она смотрела на нас обоих и, по-моему, пока ничего не понимала. Вероятно, было бы лучше, если бы я смог ее увести, прежде чем она что-либо сообразит. Я был готов ответить на любые вопросы, лишь бы добиться скорого и неопределенного завершения беседы, чтобы позднее объяснить ей все с глазу на глаз, подальше от взора полицейского, от жестких табуретов и от голой лампочки, вокруг которой вились мошки, все ей выложить.
– Какой отрезок времени вас интересует? – спросил я Виго.
– Между шестью и десятью часами.
– В шесть я зашел промочить горло в «Континенталь». Официанты меня вспомнят. В шесть сорок пять я отправился на набережную смотреть, как разгружают американские самолеты. В дверях «Мажестик» я видел Уилкинса из «Ассошиэйтед ньюс». Потом я находился в кино поблизости. Там тоже должны помнить – в кассе искали для меня сдачу. Оттуда я поехал на рикше в «Старую мельницу», был там примерно в восемь тридцать и поужинал в одиночестве. Там был Грэнджер – можете спросить у него. Примерно без четверти десять я вернулся на рикше домой. Рикшу вы тоже сможете отыскать. К десяти я ждал Пайла, однако он не приехал.
– Почему вы его ждали?
– Он позвонил. Сказал, что у него ко мне важное дело.
– Вам известно, что это за дело?
– Нет. Для Пайла все дела были важными.
– А эта его девушка – вы знаете, где находилась она?
– В полночь ждала его перед домом. Она была встревожена. Она ничего не знает. Сами, что ли, не видите, что она по-прежнему его ждет?
– Вижу, – кивнул он.
– Не можете же вы считать, что это я убил Пайла из ревности или она – чего ради? Он собирался жениться на ней.
– Да.
– Где вы его нашли?
– В воде, под мостом Да-Као.
Ресторан «Старая мельница» располагался рядом с этим мостом через канал. Мост охраняла вооруженная полиция, ресторан защищала от гранат железная решетка. Ночью пользоваться мостом было опасно, потому что весь противоположный берег реки после наступления темноты переходил в руки Вьетминя. Похоже, я ужинал не далее полусотни ярдов от трупа Пайла.
– Парню не повезло, – произнес я. – Его с кем-то спутали.
– Если откровенно, – сказал Виго, – то я по нему не скорблю. От него было много вреда.
– Упаси нас, Боже, от невинных и от праведников.
– От праведников?
– Да. Пайл был своего рода праведником. Вы – католик, вам его не понять. Он же был для вас проклятым янки.
– Вы не против опознать его? Прошу меня простить. Таков порядок, пусть не слишком приятный.
Я не стал интересоваться, почему Виго не хочет подождать кого-нибудь из американского представительства, потому что знал причину. По сравнению с нашими холодными стандартами методы французов немного старомодны: они верят в совесть, в чувство вины, преступника полагается ткнуть носом в преступление – вдруг сломается и выдаст себя? Я еще раз напомнил себе, что невиновен, спускаясь следом за Виго по каменным ступенькам в подвал, где гудела холодильная установка.
Его выдвинули, как поддон с кубиками льда, и я бросил на него взгляд. Замерзшие раны выглядели безмятежно.
– Как видите, они не вскрываются в моем присутствии.
– Comment?[6]
– Разве не в этом ваша цель? Разве я не на суде инквизиции? Правда, вы слишком сильно заморозили его. В Средние века не применяли глубокой заморозки.
– Вы его узнаете?
– О да.
Он выглядел неуместнее, чем когда-либо: ему следовало бы сидеть дома. Легко было представить Пайла в семейном фотоальбоме, в седле на ранчо для отдыхающих, в волнах на Лонг-Айленде, фотографирующимся с коллегами в квартире на 23-м этаже. Его место было в небоскребе, в скоростном лифте, с мороженым и с сухим мартини, на худой конец с куриным сэндвичем в пригородном поезде.
– Смерть наступила не из-за этого, – сообщил Виго, указывая на рану в груди. – Его утопили в иле. Мы нашли ил у него в легких.
– Быстро вы работаете.
– В этом климате иначе нельзя.
Поддон задвинули обратно, дверца с резиновой прокладкой захлопнулась.
– Вам совершенно нечем нам помочь? – спросил Виго.
– Нет.
Возвращаясь к себе домой вместе с Фуонг, я больше не заботился о своем достоинстве. Смерть отменяет любую суету – даже суету рогоносца, который не должен показывать свою боль. Фуонг все еще не знала, что произошло, а я не представлял, как донести до нее правду медленно и аккуратно. Я был корреспондентом и мыслил заголовками: «В Сайгоне убит сотрудник американского представительства!» Работа в газете не учит проявлять щепетильность при сообщении плохих новостей; даже сейчас я был вынужден думать о своей газете, поэтому попросил у Фуонг разрешения заглянуть на телеграф. Оставив ее на улице, я отправил телеграмму и вернулся. Это была формальность: я не сомневался, что французские корреспонденты уже в курсе дела. Если Виго играл по правилам (существовала и такая возможность), то цензоры задержали бы мою телеграмму, пока французы не отошлют свои. Моя газета пометит новость как поступившую из Парижа. Но Пайл не являлся важной птицей. Не стану же я передавать такую, к примеру, подробность его подлинной карьеры, что, прежде чем умереть, он сам послужил причиной не менее полусотни смертей. Это навредило бы англо-американским отношениям и сильно огорчило бы американского посланника. Тот очень уважал Пайла – Пайл отлично защитил диплом на одну из популярных у американцев дипломных тем: может, по связям с общественностью, или по театроведению, или даже по дальневосточным исследованиям (он прочитал множество книг).
– Где Пайл? – спросила Фуонг. – Чего они хотели?
– Идем домой, – сказал я.
– Пайл придет?
– Да – либо туда, либо куда-нибудь еще.
Старухи по-прежнему сплетничали на лестничной площадке, в относительном холодке. Отперев дверь, я определил, что комнату обыскали: все выглядело аккуратнее, чем раньше.
– Еще трубку? – предложила Фуонг.
– Да.
Я снял галстук и разулся; интерлюдия закончилась; ночь осталась почти что той же. Фуонг, сгорбившись около кровати, зажгла лампу. «Мое дитя, моя сестра…» Кожа цвета янтаря. Ее певучий родной язык.
– Фуонг! – позвал я. Она разминала опиум на кромке чаши. – Il est mort[7].
Она замерла с иглой в руке, глядя на меня и хмурясь, как ребенок, пытающийся сосредоточиться.
– Tu dis?[8]
– Pyle est mort. Assassiné[9].
Фуонг положила иглу и, стоя на коленях, уставилась на меня. Сцены не произошло, слезы не пролились, была только ее мысль – долгая сокровенная мысль человека, вынужденного полностью пересмотреть свою жизнь.
– Этой ночью тебе лучше остаться здесь, – произнес я.
Фуонг кивнула, опять взяла иглу и стала греть опиум. Этой ночью, очнувшись после короткого, но глубокого опиумного сна – десяти минут, после которых чувствуешь себя свежим, словно проспал целую ночь, я застал свою руку там, где она всегда раньше ночевала, – у нее между ног. Фуонг спала, я едва различал ее дыхание. Снова, через много месяцев, я был не один, и все же вдруг подумал со злостью, вспоминая полицейский участок и Виго в зеленых очках, тихие пустые коридоры представительства и чувствуя гладкую безволосую кожу под своей ладонью: «Неужели Пайл был небезразличен мне одному?»
2