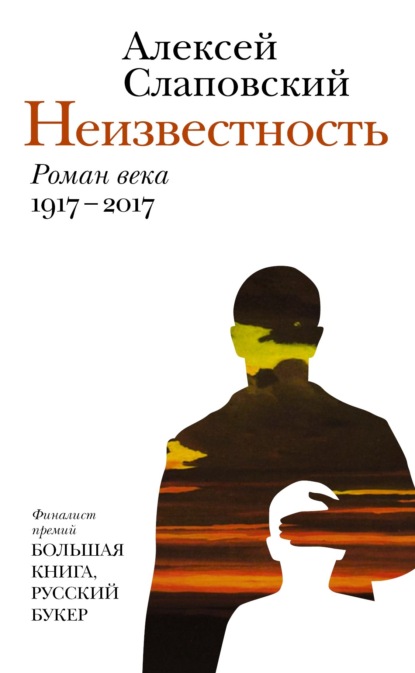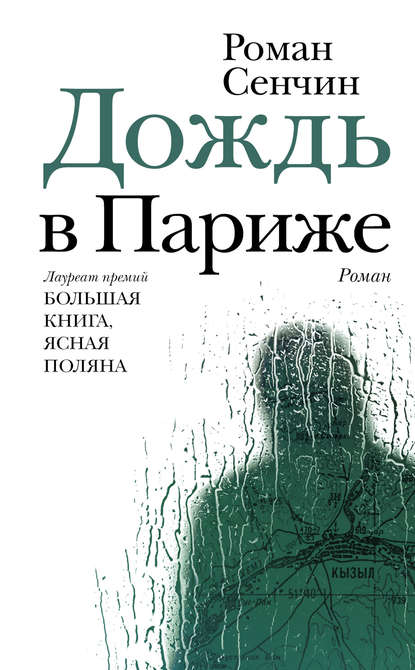Полная версия
Дождь в Париже
Родители уходили на работу, а он, завернувшись в одеяло, пробирался в большую комнату, которую у них называли «зал», и включал телевизор. По второй программе показывали по утрам – именно в то время, когда школьники сидели на уроках, – интересные передачи. «Образовательные», как указывалось в телепрограмме.
«История. 8 класс. Кромвель и уравнители», «Биология. 7 класс. Пауки», «Музыка. 4 класс. Богатырские образы в музыке А.П. Бородина», «Итальянский язык. 2-й год обучения»…
Особенно нравилось Андрею, когда актеры читали произведения. Похожий на дворянина актер декламировал стихи Жуковского, Олег Борисов наизусть рассказывал всего «Конька-Горбунка», глядя в камеру. Подвижные старички увлеченно, как о своих знакомых, говорили о Пушкине, Лермонтове, Маяковском, то и дело приводя по памяти четверостишия… Андрей завидовал их памяти: ему самому заучивание стихов давалось с великим трудом.
А к стихам тянуло. Некоторые казались написанными не людьми – не мог человек написать так прекрасно, найти такие точные, единственные слова, рифмы, которые не только украшают, а и доводят смысл до нечеловеческого величия. Нет, какого-то сверхчеловеческого.
Как землю нам больше небес не любить?Нам небесное счастье темно.Хоть счастье земное и меньше в сто раз,Но мы знаем, какое оно.Правда, стихи так просто – открыл книгу и начал – читать не получалось. Нужно было настраивать себя, что-то отключать в голове, а что-то включать, вытягивать из глубины, из-под того, что было необходимо в ежедневной жизни, грубой, опасной, нередко звериной. И это отключение и включение удавалось чаще всего во время болезней, в одиночестве, вынужденном, но и таком каком-то живительном, благотворном.
Были стихи и чудесные, и страшные одновременно, неожиданные, непредставимые. Становилось непонятно, почему их издавали теперь, когда везде говорят о хорошем в нашей стране, добром, учат созидать и созидаться, а не разрушать и разрушаться самим…
С детского сада Топкин помнил: «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». Помнил даже тот момент, когда строки эти вошли в него и остались в нем жить. И слыша их где-нибудь, читая своему сынишке, Топкин внутренне оказывался в том месте, где их узнал.
Всех детей уже разобрали, а мама задерживалась. Стемнело, в группе погасили свет, оставив один торшер, и в большом окне было видно, что на улице большими хлопьями падает снег, хлопья цепляются за ветки растущей у самого окна березы… Воспитательница ушла, а с Андреем осталась няня, пожилая большая женщина. И, наверное, заметив, как он тревожится, что готов заплакать, она усадила его на диван рядом с торшером и села рядом. В руках у нее была книга.
«Андрюша, а давай я тебе стишок прочитаю, – сказала. – Его написал Сережа Есенин, почти такой же маленький мальчик, как ты. Сидел дома один, в окошко смотрел и написал. А потом он вырос и стал великим поэтом».
Держа открытую книгу перед собой, но не заглядывая в нее, няня стала рассказывать:
«Белая береза под моим окном…»
Через несколько лет – ему было уже девять-десять, – оставшись дома один, Андрей рассматривал корешки книг в шкафу. Книг было немного, но все же, чтобы прочитать их все, нужно было потратить много времени. И он боролся с желанием взять и начать читать эти толстые недетские книги и страхом за время чтения пропустить важное в жизни.
На одном из корешков увидел: «Сергей Есенин», вспомнил тот вечер в садике, няню, словесную мелодию про березу и достал книгу.
Обложка была серая, как старый снег, поперек нее – веточка с кленовыми листочками… Андрей полистал, цепляясь взглядом за строки и отрываясь от них без усилия. Но вот зацепился и не смог оторваться. И побежал дальше, ниже и сам чувствовал, как с каждой строкой лицо его искажается, кривится.
Снова пьют здесь, дерутся и плачутПод гармоники желтую грусть.Проклинают свои неудачи,Вспоминают московскую Русь.И я сам, опустясь головою,Заливаю глаза вином,Чтоб не видеть лицо роковое,Чтоб подумать хоть миг об ином.Что-то всеми навек утрачено.Май мой синий! Июнь голубой!«Май мой синий, июнь голубой», – повторил Андрей эти наполненные свежим воздухом слова, а потом снова ухнул в удушливый сумрак:
Не с того ль так чадит мертвячинойНад пропащею этой гульбой.Что знал тогда, в девять-десять лет, Топкин о плохом? Да, конечно, кое-что знал. И видел про жизнь бандитов в фильмах «Место встречи», «Сыщик». Но стихи об этом читал впервые.
Ах, сегодня так весело россам,Самогонного спирта – река.Гармонист с провалившимся носомИм про Волгу поет и про Чека.«Про Чека… Про ЧК? Про чекистов?..»
Что-то злое во взорах безумных,Непокорное в громких речах.Жалко им тех дурашливых, юных,Что сгубили свою жизнь сгоряча.Строчки не плыли, а словно бы ковыляли, запинались, спотыкались, и от этого было еще страшней и удушливей.
Где ж вы те, что ушли далече?Ярко ль светят вам наши лучи?Гармонист спиртом сифилис лечит…«Сифилис?!» – слово, которое нельзя говорить… За кидание друг в друга тряпкой, которой стирают мел с доски, ставили неуд по поведению, вызывали родителей к завучу. И не за саму игру наказывали, а за слово, что, кидая тряпку, нужно было выкрикнуть: «Сифа!» Нельзя говорить это слово. А тут написано, причем целиком, напечатано в книге.
Может, это какая-то секретная книга? Говорят, бывают такие, и их нельзя хранить. Андрей посмотрел, где ее выпустили. Москва. Издательство «Правда». 1977 год. Нет, не секретная… Тогда – почему?..
Дрожащими руками он поставил книгу на место, а потом много дней следил за родителями – подходят ли к шкафу, берут ли серый томик. Даже старался попозже засыпать: был уверен, что берут обязательно, читают, но наверняка по ночам, чтобы никто не видел.
Вспоминал слова няни из детского сада – «великий поэт». Неужели и она знает это – про «заливаю глаза вином», «сифилис»?!
А через некоторое время Андрей с родителями оказался в гостях у папиного сослуживца, прапорщика Кандаурова, местного жителя. День рождения отмечался или еще какое-то торжество.
Семья Кандаурова жила в своем доме, с печкой, скрипучим полом, запахом избы. И на неровно оштукатуренной, с проступающей дранкой, белёной стене Андрей увидел портрет Есенина. Молодой человек с желтыми волосами и очень-очень яркими губами. Серый пиджак, в руке – трубка. Внизу – витиеватая надпись: «Сергей Есенин». Полуфотография, полурисунок. Такие делали у них в городе в конторке под названием «Металлокерамика». Портреты на могилки…
Андрей смотрел в грустные голубоватые глаза Есенина, на жизнерадостного хозяина дома, на его всё посмеивающуюся жену, на своих родителей, у которых было веселое настроение, и не верил, что они читали стихи Есенина. Как можно радоваться после «что-то всеми навек утрачено»? Всеми, не только теми, из стихов…
* * *Белёсая смесь не пилась. Действительно, как лекарство. Хм, которое не действует… Топкин выплеснул смесь в раковину, налил пастис по новой. Решил больше не разбавлять. В конце концов, сорок пять градусов – не смертельно. Раза два-три, больше чтоб показать, что не слабак, не ссыкло, приходилось глотать одеколон. И ничего, пережил, даже испытывал особое, не сравнимое с водочным или коньячным опьянение. А тут какая-то бодяга из травок… К тому же однажды пробовал абсент, когда ездил в Красноярск к приятелям, и тоже пил неразбавленным. Правда, немного – на много денег не было, пол-литра стоили тысячу с лишним. Распили компанией бутылочку, хоть узнали, что это… Зато после абсента налились «Байкалом» до ободов. Выжили.
Но все-таки волновался. Не из-за того именно, что собирался пить нечто новое, неизвестное, – чего волноваться в сорок лет по этому поводу? И не мысль, что он в Париже, волновала. Нет, другое волнение тормошило, другого свойства. Топкин не мог понять какого. Или не хотел понимать, боялся копаться в себе, разгадывать.
Поэтому подхватил одной рукой стакан, другой – ломтик сыра.
– Поехали! – выдохнул и влил в себя граммов тридцать; не успев разобрать вкус, зажевал сыром.
Проглоченный солоноватый комок стал спускаться в желудок, гася жжение. Приятное жжение крепкого алкоголя. Во рту же, несмотря на сырные остатки, было свежо, как после зубной пасты.
– А ничего-о. – И Топкин налил в стакан еще.
Пить сразу не стал, смотрел телевизор, где шла какая-то спортивная передача. Вроде давнишних советских «Веселых стартов» и гэдээровских «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».
В детстве Топкин любил смотреть эти телесоревнования. Особенно ему нравился ведущий гэдээровской программы и его частая помощница – страшненькая и в то же время милая, обаятельная девочка. В них обоих словно бы вставляли какие-то мощные батарейки, заставлявшие постоянно двигаться брови, губы, щеки, глаза…
Конечно, смотрел и серьезные игры, болел за наших спортсменов на чемпионатах мира, Олимпиадах. В хоккее, правда, предпочтение отдавал канадцам.
В начале восьмидесятых советские хоккеисты побеждали почти во всех матчах, занимали и занимали первые места, а канадцы привозили на турниры студентов, почтальонов, страховых агентов, которые при помощи двух-трех профессионалов бились с нашими спаянными круглогодичными тренировками хоккеистами героически и отчаянно. Иногда от безысходности, видимо, они начинали драться, но советские богатыри и тут их били… В общем, тех канадцев-неудачников было жалко.
Но когда из сборной ушли Третьяк, Мальцев, Балдерис, Капустин, Шалимов, Шепелев, Жлуктов и наши стали проигрывать чаще и чаще, Топкин бросил канадцев. Но это не помогло – в начале девяностых советский хоккей с его почти сорокалетней цепью побед кончился, и интерес к этому виду спорта заметно упал. Впрочем, ко многому упал интерес тогда, и то время – время начала взрослой жизни – осталось в памяти Топкина почти сплошным темным пятном, освещенным несколькими светлыми вспышками: свадьба, своя квартира, дискотеки, на которые он ходил, уже не боясь вымерших бугров, свободно танцевал с молодой женой, которая в его сознании еще оставалась подругой, «его девушкой» Ольгой. У нее и фамилия осталась прежней, девичьей – Ковецкая. Ольга не проявила желания поменять фамилию, а Андрей не настаивал. И, как оказалось, правильно сделали – потом было меньше хлопот…
Уроки физры мало кто любил, хотя резвились – «бесились», как называли это учителя, – на переменах, после уроков до упаду. Но на физру даже самые активные шли как на пытку. Не нравилась дисциплина – требования Одувана построиться, бегать по кругу, трель его свистка, команды: «Правым плечом вперед! Левым!.. Упор лежа принять!»
Правда, на физре часто обнаруживалось, что одноклассницы, привычные, на которых и внимания не обращаешь, то есть не замечаешь перемен в них, оказывается, менялись, превращались в соблазнительных девушек… И как они умеют двигаться, как упруго у них подрагивает… И, бывало, у пацанов под трикошками вдруг возникал заметный, стыдный бугорок. Приходилось скорее опускаться на корточки – «блин, в боку закололо».
Но не меньше, а даже больше возбуждали воображение одноклассницы, которые не бегали и не прыгали, а сидели на лавке. Класса с шестого почти на каждом уроке было таких две-три. Они что-то говорили физруку, тот понимающе кивал и разрешал не заниматься. И словно бы появлялась какая-то новая, взрослая параллель между физруком, лысоватым жилистым дядькой, и тринадцатилетними девчонками. А пацаны, одноклассники девчонок, оставались еще в глуповатом щенячьем детстве.
Пацанов тревожило это, они пытались найти объяснение, почему девчонки время от времени не прыгают и не играют в баскетбол, а сидят на лавке и обмениваются с физруком многозначительными взглядами. И однажды кто-то в раздевалке ляпнул:
«Да у них течка».
«Какая течка? – сразу заинтересовались остальные. – Чё это?»
«Ну, когда внутри всё готово, чтоб ребенок стал развиваться. И им нельзя в эти дни на физру ходить».
«А потом? Почему детей нет?»
«Ну, их трудно заделать».
Теперь Топкин улыбался такому объяснению, а тогда, помнится, стал пристальнее приглядываться к одноклассницам. Каждая была теперь не просто девчонкой, симпатичной или страшненькой, а главное – существом, в котором в любой момент может появиться ребенок…
Странно, что, слыша в то время, да и раньше – чуть ли не с детского сада, – матерные и ругательные слова или те, что играли роль ругательных, вроде «педофил» с ударением на второй слог, Топкин и его сверстники довольно поздно узнали о менструации. Где-то в выпускных классах. Матери скрывали от родных свои критические дни, прятали кровавые ватки и тряпки, подруги не говорили об этих днях. Никому не могло прийти в голову громко объявить: «У меня менструация!» Не то что теперь, когда по телику в одной только рекламе прокладок об «этих днях» можно услышать сто раз на дню.
Почти перед каждым уроком физры и после него пацаны развлекались тем, что заталкивали кого-нибудь в девчоночью раздевалку. Тот, кого заталкивали, вроде бы сопротивлялся, а сам надеялся увидеть белое пятно голого тела, и так будоражил этот визг – как бы испуганный, возмущенный, а на самом деле… Классе в девятом девчонки перестали визжать, и забава сошла на нет…
Да, физру не любили, а вот во что с удовольствием играли лет в восемь-четырнадцать, так это в хоккей. Сначала – на свободном пятачке во дворе, а потом, немного повзрослев, – в хоккейной коробке. Той самой, где позже произошло побоище Армяна с Бессарабом.
Собирались пацаны примерно одного возраста из нескольких домов и часами гоняли шайбу по утоптанному снегу.
Лед в коробке не заливали. Может, краны не работали, шлангов не было или еще что мешало. Да он, по существу, был бесполезен: с конца ноября до конца марта держались такие морозы, что ноги в коньках коченели за считанные минуты. Для катания нужен был теплый вагончик рядом, а таковой имелся – да и то не каждый год – лишь на центральном катке, между Музыкально-драматическим театром и сквером возле гостиницы «Кызыл». Но там в хоккей не поиграешь – каток предназначался для чинного кружения.
Андрею нравилось стоять в воротах. Без преувеличений с рождения слышал из телевизора восторженно-уважительное: «Третья-ак!» – это когда Владислав Третьяк в очередной раз спасал ворота – и, подрастая, хотел, чтобы и про него так говорили: «То-опки-ин!»
Стоял в воротах он действительно хорошо, его заметил один из тренеров местной детской команды «Динамо», раз-другой позвал попробоваться в форме, с настоящими юными хоккеистами, но Андрей, хоть и кивал, пропустил эти предложения мимо ушей, а потом жалел. Мог бы действительно заиграть всерьез… Но пожалел, когда любым видом спорта заниматься всерьез стало поздно…
Особенно ярко, отчетливо запомнились хоккейные баталии не в выходные дни или после уроков, а в будни.
Каждое утро зимой Андрей вставал с мыслью: сегодня такой мороз, что в школу можно не идти. Не умывшись, шел на кухню, где было радио.
Вкусно пахло завтраком, окно искрилось толстой наледью.
«Чисти зубы и садись есть», – говорила мама.
«Подожди». – Андрей прислушивался.
«Кызыл чоголоктур, – приветствовало радио по-тувински. – Экии, мищьтер! – А потом повторяло по-русски: – Говорит Кызыл. Доброе утро, товарищи!»
И дальше сообщали погоду. Сначала опять же на тувинском языке, затем – на русском. Если по-тувински говорили долго и звучало «дёртен», то есть «сорок», значит, мороз сильный и занятия с первого по такой-то класс отменяются. Оставалось узнать, до какого именно.
«С первого по третий, – уже поняв, часто говорила мама. – Иди умывайся».
«Ну подожди-и!» – морщился Андрей, надеясь, что мама ошиблась.
Иногда, очень редко, ошибалась. Случалось, сестре можно было не идти в школу, и она, радостно смеясь, бежала еще поспать, вернее, поваляться в кровати, а Андрей завтракал под мамино торопление, одевался и брел по сорокаградусному морозу в школу. И эти метров триста казались длиннющей, трудной дорогой. Не из-за холода, а из-за обиды…
Но бывало, что занятия отменяли с первого по пятый, по восьмой и даже по десятый классы. И эти утра становились по-настоящему счастливыми.
Конечно, Андрей не выказывал перед родителями особенной радости. Сдерживался. Даже мрачнел и вздыхал расстроенно:
«Блин, а я к биологии подготовился…»
Сам же с нетерпением ожидал, когда папа поедет в часть, а мама – в универмаг «Саяны», где она заведовала отделом «Ткани».
И вот они выходили из квартиры, и он начинал звонить пацанам. У большинства в квартирах стояли телефоны: отцы были офицерами. Спрашивал:
«Выйдешь?»
Или пацаны его опережали. Какая разница?.. В общем, часов в девять собирался табунчик ребят в валенках, шубейках, шапках с опущенными ушами, с натянутыми на рты воротами свитеров. В руках – клюшки. В морозном мареве добирались до коробки, при помощи считалок разбивались на команды – устоявшихся составов не было, – и начиналось рубилово.
Пацаны росли, удары по шайбе становились всё мощнее, пошли щелчки и метания (когда шайба летала по воздуху) – стоять в воротах становилось опасно.
При помощи папы Андрей сконструировал себе щитки из ваты и вшитых в ткань палочек; однажды увидел в «Детском мире» маску почти как у канадских вратарей. Уговорил родителей купить ее. И когда стал по-настоящему готов отражать любые броски, пацаны выросли и потеряли интерес к хоккею. Уцелевшие клюшки матери использовали для выбивания ковров, как растяжку для сушки белья на балконе…
После чемпионата Европы по футболу, когда наши стали серебряными призерами, накатило увлечение футболом. Погонять мяч, конечно, любили всегда, но тут случилось нечто особенное. Матчи проводили если и не одиннадцать на одиннадцать, с соблюдением всех правил, то все же всерьез – со штрафными и одиннадцатиметровыми, аутом, попытками фиксировать офсайд.
Андрей находился обычно в защите, в ворота вставал редко, а для атаки не был достаточно резв и мощен.
Вскоре играть просто так стало скучно, и пацаны разработали сетку настоящего чемпионата школы. В нем принимали участие классы с седьмого до десятого. В девятом и десятом парней, правда, оставалось мало – по шесть-восемь человек (большинство после восьмого уходили в училища, техникумы), и обязательно один-другой играть не умели и не хотели, поэтому недостающее до равного количество брали из других классов. Тринадцатилетние, понятно, на равных играть с шестнадцатилетними не могли, но все же задерживали атаки соперников пусть не умением, так числом.
Собирались после уроков на футбольном поле за школой, убирали камни, палки, битое стекло и начинали. Этот чемпионат – а кто в итоге победил, забылось – поразительно объединил пацанов, и даже бугры перестали наезжать и трясти деньги. Жалко, на время…
Занятия физкультурой в институте были необязательными. Корпус истфила, на котором учился Топкин, находился возле парка, и желающие могли побегать по дорожкам или же побросать мяч в кольцо на крошечной спортплощадке на задах корпуса. А если желания ни бегать, ни бросать не было, то можешь отметиться у давно потерявшего всякий интерес к своему предмету преподавателя – и свободен… Андрей предпочитал отмечаться.
По телевизору соревнования не смотрел – детское боление исчезло бесследно, и лет с девятнадцати он считал глупостью, признаком некоторой дебильноватости убивать время, наблюдая, как бегут на лыжах, пинают мяч, пасуют друг другу шайбу. Лучше фильм посмотреть, послушать музыку, почитать. В крайнем случае отжаться, подтянуться, пробежаться самому.
Последний раз Андрей оказался на стадионе осенью девяносто второго года. После пар в институте решили побухать пива. Это не просто бухнуть, а выпить как следует. Всерьез.
Собралась компашка человек семь с разных курсов истфила. В продуктовом магазине на улице Интернациональной, небольшом и почти укромном, пиво в розлив было. Но требовалась тара. Хм, теперь, когда повсюду пластиковые бутылки, дико представить, что двадцать лет назад унести разливуху было проблематично. (Бутылочное появлялось редко, к тому же стоило раза в два дороже.) Да и выпить на месте зачастую тоже: у продавщицы имелась одна мерная кружка, а то и банка, которой она могла наливать пиво хоть куда. Случалось, люди подставляли целлофановые пакеты.
Слава богу, один из студентов, Юрик Пахомов, жил неподалеку. Сбегал домой, принес две пустые трехлитровые банки. Не совсем чистые, но это было уже не так важно. Главное, появилась тара.
Продавщица нацедила в банки желтоватого, почти не пенящегося «Жигулевского», приняла деньги – целую пачку рублей образца девяносто первого года, бледных по сравнению с советскими, без надписей «один карбованець, бир манат»… Интересно, что, когда их выпускали, Советский Союз еще был, а надписи на языках основных народов, этот Союз составлявших, убрали, оставив лишь надпись на русском. Но об этом тогда мало кто задумывался, было не до того, да и эти полусоветские рубли просуществовали недолго, утонув в море новых, пестрых, но ничего не стоивших бумажек.
Однажды, году в девяносто четвертом, Топкин чуть было не влип конкретно из-за ежедневной, а то и ежечасной инфляции. Поехал в находящийся километрах в ста от Кызыла городок Туран. Нужно было отвезти кой-какие документы по работе. Сел в автобус, доехал, отдал. Вернулся на автостанцию, стал покупать обратный билет, а ему: «Цены изменились». И билет стал стоить почти в два раза дороже. У него не хватало. Пришлось бежать к тем, кому передавал документы, просить в долг. И самое неприятное: документы Андрей вручил людям стрёмные – доказывающие, что претензии на выплату такой-то суммы неосновательны. И вот гонец с плохой вестью просит себе типа чаевые за эту весть… Хорошо, что люди – совсем не богатая, по всему судя, семья – вошли в положение, дали недостающую сумму…
Купив пива, стали искать, где бы устроиться. Пить просто под деревом или во дворе было рискованно – улицы патрулировала милиция, отыскивая не столько преступников и хулиганов, сколько мелких нарушителей порядка, чтобы стрясти с них штраф за распитие в общественном месте, справление нужды на забор.
«Может, на бережок? – предложил кто-то из парней. – Забуримся в тальник».
Пошли в сторону Енисея. Хотя там бухать тоже небезопасно: менты заглядывали и туда да вдобавок можно было нарваться на тувинцев. Начнутся наезды, разборки, может и нож возникнуть. Но посидеть на теплых булыганах, глядя на катящуюся сильную воду, на степь на той стороне, на горы, задуматься всем вместе о чем-нибудь таком, что оторвет на несколько минут от земли, – это кайф…
«О, глядите, “Пятилетка” открыта!» – изумленно воскликнул Юрик Пахомов.
Проходили как раз мимо стадиона «Пять лет Советской Туве».
Стадион этот хоть и был намного скромнее «Хуреша», что находился в парке, – одна трибуна, а с трех остальных сторон высоченный забор, – но именно на «Пятилетке» проводили большинство мероприятий. Удобно – почти в центре города.
Здесь выступали знаменитые гастролеры от Аллы Пугачевой и Евгения Леонова до группы «Мираж». На «Мираж» ломились толпы, хотя знатоки тогда, году в восемьдесят восьмом, утверждали, что это ненастоящий «Мираж» и поют под «фанеру», но остальным – многим сотням парней и девчонок – было плевать: тащились, сидя на трибуне, по полной; а танцевать было нельзя: по проходам курсировали дружинники и успокаивали особо эмоциональных:
«Присядьте. Иначе будем вынуждены вывести».
Но как тут усидишь, когда тебя будоражит, подбрасывает нежный и смелый девичий голос из мощных колонок: «Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя-а!»
На «Пятилетке» проходили соревнования по легкой атлетике, футбольные матчи какой-то зоны какой-то лиги, в которой пребывало кызылское «Динамо».
За полем следили, вечно перекладывали пласты быстро засыхающего дерна, берегли песок в секторе прыжков в длину, посыпали кирпичной крошкой беговые дорожки… А теперь ворота настежь, никого рядом.
Парни осторожно вошли, поозирались и тихо, гуськом, как группа диверсантов, двинулись на верх трибун, под крышу, где на концертах и соревнованиях обычно сидело начальство и уважаемые люди.
Уселись и стали гонять банку по кругу. Банка становилась легче и легче, а в животе, наоборот, тяжелело. Голову медленно заливало мутноватое пивное опьянение.
Разговаривать было особенно не о чем. Виделись пять дней в неделю в институте, знали друг о друге, кажется, всё. Почти все после школы пробовали поступить в вузы в других городах, но не получилось, и вот осели в пединституте, нося на себе едкую поговорку: «Ума нет – иди в пед».
Никто свое будущее не видел школьным учителем; Серега Пикулин с четвертого курса рассказывал о практике с ужасом: семиклассники, особенно девки, издевались над ним так, что успокоительные таблетки пить приходилось, хотелось перебить этих орущих, гогочущих подростков.
«Мы такими не были», – как-то по-стариковски вздыхал Серега.
Вообще, диплом о высшем образовании казался бессмысленным и лишним, учеба – пустым убиванием времени, того времени, которое можно было употребить на дело.