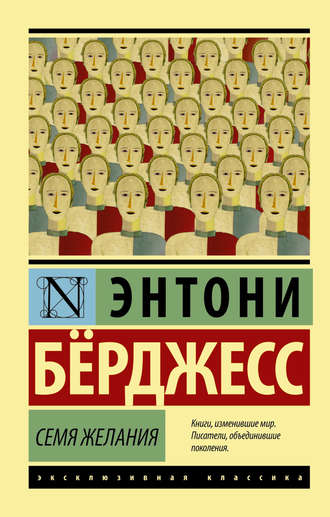
Полная версия
Семя желания

Энтони Бёрджесс
Семя желания
Часть первая
Глава 1
Время? День, вечером которого ударят ножи правительственного разочарования.
Беатрис-Джоанна Фокс всхлипывала от горя, пока маленький трупик в желтом пластмассовом гробу передавали двум представителям Министерства сельского хозяйства (Департамент утилизации фосфора). Из ДПУ прислали развеселую парочку: эти угольно-черные типы постоянно улыбались, сверкая вставными челюстями, а один еще и распевал недавно ставшую популярной песенку. После телевизионных трелей грациозных безликих мальчиков эта песенка, исполняемая хрипловатым баском плотоядного потомка выходцев из Вест-Индий, звучала неуместно. А еще жутковато.
Мой милый Фред – душка:Сладок от пятокДо самой макушки.Он моя сушка!А может быть, мясо!Мя-я-ясо, хочу я мя-а-са!Покойничка звали не Фред, а Роджер. Беатрис-Джоанна давилась слезами, но черномазый продолжал петь, нисколько не смущаясь происходящим: повторение обыденного ритуала вырабатывает требуемую непринужденность.
– Ну вот и готово, – сердечно сказал доктор Эйчсон, толстый англосаксонский мерин. – Еще капелька пентоксида фосфора вернется к старой доброй матери-земле. Пожалуй, и полкило не наберется. Но всякое лыко в строку.
Теперь певун засвистел. И насвистывая, согласно закивал и протянул квитанцию.
– Пройдемте ко мне в кабинет, миссис Фокс, – улыбнулся доктор Эйчсон. – Я дам вам копию свидетельства о смерти. Отнесете его в Министерство бесплодия, и вам выплатят утешительные. Наличными.
– Я хочу только вернуть моего сына, – всхлипнула она.
– Ну ну, это пройдет, – весело сказал доктор Эйчсон. – У всех проходит.
Он благосклонно смотрел, как двое в черном уносят гробик к лифту. Двадцатью этажами ниже их ждал фургон.
– Взгляните на это в масштабах страны, в глобальных масштабах. Одним ртом меньше. И полкило пентоксида фосфора, чтобы подпитать землю. В каком-то смысле, миссис Фокс, вы получите сына назад.
Он первым прошел в крошечный кабинет.
– Мисс Хёршхорн, – обратился он к секретарше, – будьте добры свидетельство о смерти.
Мисс Хёршхорн, тевтонокитаянка, стремительно проквакала данные в аудиограф на столе, и из прорези вылезла карточка. Доктор Эйчсон штампом поставил подпись – плавную и с завитушкой, женственную.
– Вот, пожалуйста, миссис Фокс, – сказал он, – и постарайтесь смотреть на вещи рационально.
– Как я посмотрю, – резко ответила Беатрис-Джоанна, – вы могли бы спасти его, если бы захотели. Но вы решили, что оно того не стоит. Лишний рот, который Государству полезней в качестве фосфора. Как же вы бессердечны!
Она снова заплакала.
Мисс Хёршхорн, худая дурнушка с собачьими глазами и прилизанными черными волосами, скорчила доктору Эйчсону недовольную гримаску: по всей очевидности, они к такому привыкли.
– Он был очень плох, – мягко сказал доктор Эйчсон. – Мы делали что могли: Гоб свидетель, делали. Но этот штамм менингококковой инфекции просто-таки, сами понимаете, галопирует. А кроме того, – добавил он с упреком, – вы слишком поздно его нам привезли.
– Знаю, знаю. Я виню себя. – Ее крошечный носовой платок совсем промок. – Но я думаю, его можно было спасти. И муж тоже так думает. Вам просто больше нет дела до человеческой жизни! Всем вам! Ох, мой бедный мальчик!
– Нам есть дело до человеческой жизни, – строго возразил доктор Эйчсон. – Но также нам важна стабильность. Наша забота – избегать перенаселения. Наша забота – чтобы у всех было достаточно пищи. – Думаю, – уже добрее добавил он, – вам следует поехать домой и отдохнуть. Покажите это свидетельство в Пункте выдачи лекарств и попросите дать вам пару успокоительных. Ну же, ну же. – Он похлопал ее по плечу. – Надо постараться быть разумнее. Постараться быть современной. Такая умная женщина… Оставьте материнство низшим классам, как и назначено природой. Именно это, конечно же, вам и полагается согласно правилам. Вы получили рекомендованный рацион. Для вас – никакого больше материнства. Постарайтесь перестать чувствовать себя матерью. – Он снова ее похлопал, желая прекратить этот разговор, и сказал: – А теперь прошу меня простить…
– Никогда, – заявила Беатрис-Джоанна. – Я никогда вас не прощу. Никого из вас не прощу.
– Всего хорошего, миссис Фокс.
Мисс Хёршхорн включила маленькую речевую машину, которая с маниакальностью синтетического голоса принялась перечислять встречи, запланированные для доктора Эйчсона на остаток дня. Тем временем доктор Эйчсон невоспитанно повернулся спиной к Беатрис-Джоанне. Все было кончено: ее сын был на пути к месту, где его превратят в пентоксид фосфора, а сама она превратилась в хнычущую помеху.
Вскинув голову, она широким шагом вышла в коридор, тем же широким шагом двинулась к лифту. Беатрис-Джоанна была красивой женщиной двадцати девяти лет, красивой на былой манер, что теперь не одобрялось в женщинах ее класса. Прямое непривлекательное черное платье не могло скрыть роскошного изгиба бедер, как не мог совершенно сплющить великолепную округлость груди стягивающий корсаж. Согласно моде ее волосы цвета сидра были не завиты, лоб скрывала челка, на лице – тонкий слой простой белой пудры. Духов она не носила, поскольку те отводились исключительно для мужчин. Но даже невзирая на естественную бледность горя, она как будто сияла и светилась здоровьем и – что весьма порицалось – угрозой плодовитости. Было в Беатрис-Джоанне что-то атавистическое: сейчас она инстинктивно вздрогнула при виде двух женщин-рентгенологов в белых халатах, которые, выйдя из своего отделения в другом конце коридора, прошествовали к лифту, нежно улыбаясь друг другу и сплетя пальцы. Теперь подобное поощрялось – что угодно, лишь бы отвлечь секс от его естественного завершения: вся страна пестрела плакатами, развешанными по распоряжению Министерства бесплодия. На плакатах – какая ирония! – в пастельных тонах детской бесполые пары обнимались под лозунгом: «Гомо есть Сапиенс». В Институте гомосекса даже проводились ночные семинары.
Входя в лифт, Беатрис-Джоанна глянула на обнимающуюся парочку с инстинктивным отвращением. Лесбиянки, обе белые, европеоидной расы, дополняли друг друга полнейшим стереотипом: игривый котенок под стать лягушке-быку. Повернувшись спиной к поцелуям, Беатрис-Джоанна испытала рвотный позыв. На девятнадцатом этаже лифт подобрал фатоватого задастого молодого человека, стильного, в хорошо сшитом пиджаке без лацканов, узких бриджах и цветастой рубашке без ворота со множеством защипов. И он тоже посмотрел на влюбленных с явным отвращением, но, брезгливо поведя плечами, с равной неприязнью скривился при виде женственности Беатрис-Джоанны. Наработанными быстрыми движениями он начал поправлять макияж, обсасывая губную помаду и жеманно улыбаясь собственному отражению в зеркале лифта. Влюбленные хихикали – то ли над ним, то ли над Беатрис-Джоанной. «Куда катится мир!» – подумала она, когда лифт снова стал опускаться, но, тайком приглядевшись к фату, решила, что это ловкая маскировка. Возможно, он, как и ее деверь Дерек, ее любовник Дерек, постоянно играет на публику и своим положением, своими шансами на карьеру обязан бесстыдной лжи. И невольно она в который раз (а такое случалось часто) подумала, что есть, наверное, что-то глубинно-нездоровое в мужчине, который вообще способен разыгрывать подобное. Она была уверена, что сама никогда не смогла бы притворяться, заставить себя совершать вязкие безжизненные телодвижения извращенной любви, даже если бы от этого зависела ее жизнь. Мир сошел с ума. Когда все это кончится? Лифт спустился на нижний этаж, она сунула сумочку под локоть, снова вскинула голову и приготовилась храбро окунуться в безумный мир снаружи. По какой-то причине двери лифта не открылись («Ну же! – недовольно цокал языком задастый франт, тряся двери. – Ну же!»), и в это мгновение из-за неосознанного страха оказаться в ловушке ее больное воображение превратило кабину лифта в желтый гробик с потенциальным пентоксидом фосфора.
– Ох, – тихонько всхлипнула она, – бедный маленький мальчик!
– Ну же! – защебетал при виде ее слез юный фат, сияя цикламеновой помадой.
Двери лифта отпустило, и они разошлись. С плаката на стене вестибюля на них смотрели обнявшиеся любовники-мужчины. «Возлюби ближнего своего», – призывал лозунг. Влюбленные медсестры захихикали над Беатрис-Джоанной.
– Пропади вы пропадом! – крикнула она, вытирая глаза. – Чтоб вам всем провалиться! Вы нечисты. Вот что с вами такое: все вы попросту нечисты!
Молодой человек покачнулся, неодобрительно цокнул языком и, покачивая бедрами, двинулся прочь. Кряжистая лесбиянка защищающим жестом обняла подругу за плечи и враждебно уставилась на Беатрис-Джоанну.
– Я ей устрою нечистую, – хрипло произнесла она. – Вмажу ее лицом в грязь, вот что я сделаю.
– Ах, Фреда, – обожающе вздохнула вторая, – ты такая храбрая!
Глава 2
В то время как Беатрис-Джоанна спускалась, ее муж Тристрам Фокс поднимался. Гудящий лифт вознес его на тридцать второй этаж Унитарной школы (для мальчиков) Южного Лондона (Ла-Манш), секция четыре. Его ожидал четвертый класс (поток 10) в составе шестидесяти человек. Ему предстояло вести урок современной истории. На задней стенке лифта, полускрытая за громадной тушей учителя рисования по фамилии Джордан, виднелась карта Великобритании, новенькая, последнего школьного выпуска. Большой Лондон, подпертый с юга и с востока морем, еще больше заползал на Северную и Западную провинции: новой его границей с севера стала линия, идущая от Лоустофта к Бирмингему; на западе эта линия тянулась от Бирмингема к Борнмуту. Ходила шутка, что желающим переселиться из провинций в Большой Лондон нет нужды переезжать: достаточно просто подождать. В самих провинциях еще можно было видеть старинное деление на графства, но из-за диаспор, иммиграции и смешения рас старые национальные наименования «Уэльс» и «Шотландия» уже утратили точное значение.
– Надо избавиться либо от одних, либо от других, – говорил Джордану Бек, преподававший математику в младших классах. – Наша проблема всегда была в компромиссе, в либеральном пороке компромисса. Семь септов в гинее, десять шестипенсовиков в кроне, восемь полукрон в соверене. Малолетние бедолаги просто не способны взять это в толк. Мы не можем заставить себя с чем-то расстаться, вот в чем великий грех нашей нации…
Тристрам вышел, оставив старого лысого Бека продолжать свою тираду. Пройдя в классную четвертого класса, он прищурился на своих мальчиков. Майский свет лился из обращенного к морю окна на пустые лица, на пустые стены. Он начал урок.
– Постепенная категоризация двух главных противоборствующих идеологий в свете теологически-мифических концепций.
Тристрам был не слишком хорошим преподавателем: говорил чересчур быстро, употреблял слова, которые ученикам оказывалось трудно записывать, и вообще имел тенденцию мямлить и отвлекаться от темы. Класс послушно старался записывать его слова в тетради.
– Пелагианство, – говорил он, – когда-то считалось ересью. Его даже называли британской ересью. Может мне кто-нибудь назвать другое имя Пелагия?
– Морган, – сказал прыщавый мальчик по фамилии Морган.
– Верно. Оба имени означают «человек из моря».
Мальчишка позади «человека из моря» пронзительно свистнул сквозь зубы и стал тыкать Моргана в спину.
– Перестань! – огрызнулся Морган.
– Да, – продолжал Тристрам. – Пелагий принадлежал к народу, который некогда населял Западную провинцию. Он был – как сказали бы в старые религиозные времена – монахом. Монахом.
Тристрам бодро встал из-за стола и желтым мелом вывел это слово на доске, точно боялся, что ученики не смогут его правильно записать. Потом снова сел.
– Пелагий отрицал доктрину первородного греха и утверждал, что человек способен своими трудами заслужить себе спасение.
Мальчики воззрились на него с полным непониманием.
– Оставим это пока, – смилостивился Тристрам. – Но вам следует запомнить, что учение Пелагия предполагает способность человека к совершенствованию. Тем самым в пелагианстве видели ядро либерализма и выводимых из него доктрин, в особенности социализма и коммунизма. Вы за мной поспеваете?
– Да, сэр, – рявкнули и пискнули шестьдесят ломающихся голосов.
– Хорошо.
Лицо Тристрама имело мягкие черты и было таким же невыразительным, как у его учеников, но глаза за контактными линзами лихорадочно блестели. В его волосах проглядывала негроидная курчавость, а голубые полумесяцы на ногтях почти скрывали кутикулы. Ему было тридцать пять лет, и вот уже почти четырнадцать он преподавал в школе. Он зарабатывал чуть более двухсот гиней в месяц, но надеялся, что по смерти Ньюика его повысят до главы Департамента общественных наук. Это означало бы существенное прибавление к жалованью, что, в свою очередь, означало бы более просторную квартиру и лучший старт в жизни маленького Роджера. Тут он вспомнил, что Роджер умер.
– Хорошо, – повторил он, как сержант-инструктор на занятии по военной подготовке в эпоху до наступления Вечного Мира. – Августин, с другой стороны, настаивал на имманентной греховности человека и его потребности в искуплении посредством божественной благодати. Считалось, что эта концепция лежит в основе консерватизма и других laissez-faire[1] и непрогрессивных политических доктрин. – Он улыбнулся классу. – Противоположный тезис, понимаете? – с подозрением спросил он. – Все на самом деле очень просто.
– Не понял, сэр, – бухнул верзила по фамилии Эбни-Гастингс.
– Видите ли, – дружелюбно отозвался Тристрам, – старые консерваторы ничего хорошего от человека не ждали. Человека рассматривали как по природе своей собственника, стремящегося к накоплению, желающего только приумножать свое имущество, как существо эгоистичное и не склонное к сотрудничеству, которому нет дела до прогресса общества. По сути, грех – лишь синоним эгоизма, джентльмены. Запомните это. – Он подался вперед, въехав рукавами в желтую меловую пыль, покрывавшую стол как песчаные наносы. – Что нам делать с эгоистичным человеком? – спросил он учеников. – Есть предложения?
– Вздуть? – предложил белокожий мальчик по имени Ибрагим ибн-Абдула.
– Нет. – Тристрам покачал головой. – Ни один августинец такого не сделает. Если ожидаешь от человека худшего, то и разочарование тебя не постигнет. Только разочарованные прибегают к насилию. Пессимист, а это еще один синоним августинца, извлекает своего рода мрачное удовлетворение, видя, до чего способен опуститься человек. Чем больше греха он видит вокруг, тем более подтверждается его вера в первородный грех. А все любят, чтобы их фундаментальные воззрения подтверждались: это, пожалуй, самое неизменное человеческое удовольствие.
Тристраму вдруг наскучили избитые разъяснения. Он оглядел сидящих рядами шестьдесят учеников, будто искал какой-нибудь проступок или шалость, которые бы его развлекли, но все сидели смирно и внимательно, послушные-препослушные, точно решили собственным примером подтвердить пелагианское учение. Микрорадио на запястье у Тристрама дважды прогудело. Он поднял его к уху. Жужжание насекомого, точно голос совести, произнесло: «Пожалуйста, по окончании урока зайдите к директору», – крошечные хлопки взрывных звуков. Хорошо. Вот оно! Значит, вот оно! Скоро он займет место бедного покойного Ньюика, а жалованье, возможно, прибавят задним числом. Он даже встал, на манер адвоката смяв пиджак там, где в дни лацканов были бы лацканы. И урок он возобновил с новым жаром:
– В наши дни политические партии отошли в прошлое. Мы признаем, что старая дихотомия существует в нас самих и не требует наивной проекции в виде сект или фракций. Мы и Бог, и дьявол в одном лице, пусть и не одновременно. Таковым может быть только мистер Морда-Гоб, а мистер Морда-Гоб, разумеется, просто вымышленный персонаж.
Тут ученики заулыбались. Они все любили «Приключения мистера Морда-Гоба» в «Космо-комиксе». Мистер Морда-Гоб был лопоухим и мокроносым кругленьким демиургом, который, плодовитый, как Шекспир, порождал нежеланную жизнь по всей земле. Перенаселение было его рук делом. Однако, что бы ни затевал, в какую бы передрягу ни ввязывался, он никогда не выходил победителем: его всегда успевал поставить на место Мистер Гомо, его босс – человек.
– Теология, заложенная в противоположных доктринах пелагианства и августинианства, утратила былое значение. Мы используем эти мифические символы, потому что они удивительно точно соответствуют нашему времени, эпохе, которая все больше полагается на перцепцию, пиктограммы и изображения. Петтмен! – с внезапной радостью крикнул Тристрам. – Вы что-то жуете! Едите на уроке! Так не пойдет, верно?
– Я не ем, сэр, – ответил Петтмен. – Прошу прощения, сэр. – Это был мальчик дравидской внешности, но с выраженными чертами лица краснокожего индейца. – Все дело в зубе, сэр. Мне надо его сосать, сэр, чтобы он перестал болеть, сэр.
– Мальчику вашего возраста иметь зубы не следовало бы, – сказал Тристрам. – Зубы – это атавизм.
Он помолчал. Он часто говорил это Беатрис-Джоанне, у которой были особенно красивые естественные челюсти – и верхняя, и нижняя. На заре их брака она получала удовольствие, покусывая ему мочки ушей. «Перестань, пожалуйста, дорогая. Ох, милая, больно». А потом маленький Роджер. Бедный маленький Роджер. Вздохнув, Тристрам усилием воли продолжил урок.
Глава 3
Беатрис-Джоанна решила, что, невзирая на издерганность, и горе, и странный стук в груди слева, она не хочет успокоительных таблеток из Пункта выдачи. Она вообще ничего больше не хочет от Государственной службы здравоохранения, спасибо большое… Набрав в грудь побольше воздуха, точно собиралась нырнуть, она стала протискиваться через скопление людей, набившихся в огромный вестибюль больницы. Благодаря смеси пигментов и цефалических указателей на стенах, благодаря великому множеству носов и губ этот вестибюль напоминал зал ожидания какого-то чудовищного международного аэропорта. Протолкавшись к лестнице, она немного постояла, упиваясь чистым уличным воздухом. Эра личного транспорта практически закончилась: по забитым пешеходами улицам ползли только государственные фургоны, лимузины и микробусы. Она подняла взгляд вверх. Небоскребы бесчисленными этажами возносились в майское небо, голубое, как утиное яйцо с перламутровой пленкой. Пестрое и обветшалое небо. Пульсирующая голубизной, седая светящаяся высь. Смена времен года – единственный неизменный факт, извечное повторение, цикл. Но в этом современном мире цикл превратился в эмблему статичного, ограниченного шара, тюрьмы. Почти в небе, на высоте по меньшей мере двадцати этажей, на фасаде Института демографии красовался барельефный круг с идущей к нему по касательной прямой. Он символизировал желаемое: победу над проблемой популяции – касательная не тянулась от вечности к вечности, а равнялась длине окружности. Стазис, застой… Баланс глобального населения и глобальных запасов продовольствия. Ее мозг одобрял, но тело – тело осиротевшей матери – кричало: нет… НЕТ! Символы в вышине означали отказ от столь многого; во имя разума совершалось святотатство против жизни. Она чувствовала дыхание моря на левой щеке.
Она свернула на юг, пошла по улицам Большого Лондона, где благородство и головокружительная величавость зданий искупляли вульгарность вывесок и лозунгов. «Златосияющий Солнечный Сироп». «Национальное Стереотелевидение». «Синтеглотка». Она протискивалась в столпотворении, ведь людской поток двигался на север. Тут она заметила, что толпа сегодня чуть однороднее обычного, что по большей части тут мужчины и женщины в серой форме полиции – многие из них неуклюжи, точно недавно рекрутированы. В конце улицы видением здравости души и тела поблескивало море. Это был Брайтон, административный центр Лондона, – будто прибрежную полосу можно называть центром! Насколько позволял движущийся на север людской поток, Беатрис-Джоанна пробиралась к прохладе зеленой воды. Отрывающийся из узкого и давящего каменного ущелья вид вечно сулил нормальность, простор свободы, но сам выход к морю всегда приносил разочарование. Каждые пятьсот ярдов или около того возникал рвущийся к Франции крепкий пирс, застроенный кубами офисов или ульями многоквартирных домов. Но чистое соленое дыхание оставалось неизменным, и Беатрис-Джоанна жадно его впитывала. Ее не оставляло интуитивное убеждение, что если Бог существует, то обитает он в море. Море сулило жизнь, шептало или кричало о плодородности; его голос никогда нельзя было заглушить совершенно. «Ах если бы только, – с безумным отчаянием подумала она! – тело маленького Роджера бросить в эти тигровые воды, если бы его унесло, чтобы его глодали рыбы, а не превратили бездушно в химикаты и не скормили бы безмолвно земле!» Ее преследовала ужасная мысль, что земля умирает, что море скоро станет последним прибежищем жизни. «Ты, о море, – бред, лишенный меры, хитон дырявый на спине пантеры весь в идолах солнцеподобных…»[2] – прочла она когда-то в переводе с какого-то второстепенного европейского языка. Гидра, что пьянеет, пожирая свой собственный, свой ярко-синий хвост…
– Море, – тихонько сказала она, поскольку набережная была также запружена людьми, как и улица, с которой она только что вышла. – Помоги нам, море. Мы больны, о море! Верни нам здоровье, верни нас к жизни!
– Прошу прощения? – спросил пожилой англосакс, подтянутый, краснощекий, с подагрическими пятнами, седоусый: в милитаристскую эпоху его тут же сочли бы отставным полковником. – Вы ко мне обращались…
– Извините.
Покраснев под слоем белой как кость пудры, Беатрис-Джоанна поспешила прочь, инстинктивно свернув на восток. Ее взгляд невольно потянулся к огромной бронзовой статуе, которая гордо бросала вызов небесам с головокружительной высоты шпиля здания Правительства: фигура бородатого мужчины в античной тоге гневно взирала на солнце. Ночью ее подсвечивали прожекторы. Путеводная звезда кораблям, человек из моря, Пелагий. Но Беатрис-Джоанна помнила то время, когда его называли Августином. И, как поговаривали, в иные времена он был королем, премьер-министром, популярным бородатым гитаристом, поэтом Элиотом (давно покойным певцом бесплодия), министром рыбоводства, капитаном команды мужской священной игры и – наиболее часто и удовлетворительно – великим неизвестным волшебником Анонимом.
Рядом со зданием Правительства, бесстыдно выходя фасадом на плодовитое море, притулилась более приземистая скромная постройка высотой всего в двадцать пять этажей – Министерство бесплодия. Над портиком министерства красовался неизбежный круг с целомудренно целующей его касательной, а еще большой барельеф обнаженной бесполой фигуры, разламывающей яйцо. Беатрис-Джоанна решила, какая разница, можно и сейчас забрать свои (так цинично названные) утешительные. Это даст ей повод войти в здание, повод задержаться в вестибюле. Возможно, она увидит его, когда он будет уходить с работы. Она знала, что на этой неделе он работает в А-смену. Прежде чем пересечь променад, она посмотрела на деловитые толпы почти новыми глазами, – возможно, глазами моря. Это был британский народ, а точнее, народ, населяющий Британские острова, поскольку тут преобладали евроазиаты, евроафриканцы и европолинезийцы. Солнечные блики ложились на кожу всевозможных оттенков: сливового, золотистого и даже красновато-коричневого, – ее собственный английский персиковый, замаскированный белой мукой, встречался все реже. Этнические различия утратили свою значимость, и мир разделился на языковые группы. Может, подумала она вдруг с почти пророческим пылом, это ей и немногим бесспорным англосаксам вроде нее выпало вернуть достоинство и душевное здоровье этому миру-полукровке? Ей смутно помнилось, что ее раса уже сделала это однажды.
Глава 4
– Важное достижение англосаксонской расы, – говорил Тристрам, – парламентское правительство, которое со временем стало означать многопартийную систему. Позднее, когда пришли к выводу, что деятельность правительства можно осуществлять эффективнее без дебатов и оппозиции, какую подразумевает многопартийное правительство, постепенно было распознано значение сущности цикла.
Подойдя к синей доске, он желтым мелом нарисовал большой кривоватый круг.
– Вот как, – продолжал он, механически, как на шарнире, поворачивая голову посмотреть на учеников, – работает цикл.
Он разделил круг на три дуги.
– У нас Пелагианская фаза. Затем наступает Промежуточная фаза.
Мел вторично обвел сперва одну дугу, потом другую.
– Это ведет к Августинианской фазе.
Опять утолщение, и мел вернулся к исходной точке.
– Пелфаза, Промфаза, Авфаза, Пелфаза, Промфаза, Авфаза и так далее и так далее до бесконечности. Своего рода вечный вальс. Теперь следует рассмотреть, как мотивирующая сила приводит колесо в движение.
Он с серьезным видом повернулся к классу, похлопывая одной ладонью по другой, чтобы отряхнуть мел.













