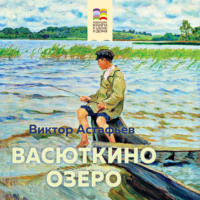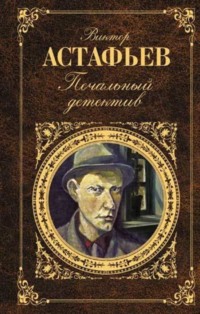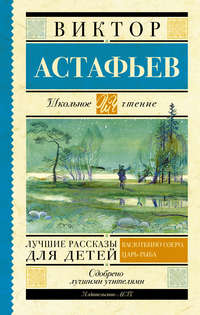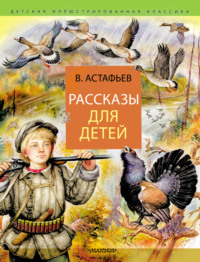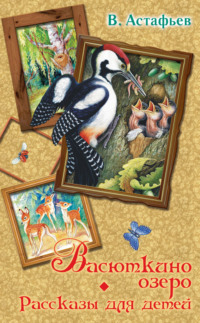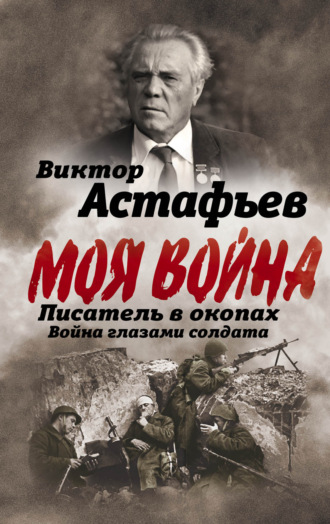
Полная версия
Моя война. Писатель в окопах: война глазами солдата
В 1944 году наши боевые орудия, славные старушки-«лайбы» были заменены стомиллиметровыми пушками новейшего образца. Я их уже не видел, в это время лежал в госпитале, после которого попал в нестроевую часть и демобилизован был в конце 1945 года.
Командир дивизиона рассказывал, что когда «лайбы», чиненые-перечиненые, со сгоревшей на них краской, с заплатами на щитах, пробитых пулями и прогнутых осколками, сдавали в «утиль», на переплавку, командиры батарей и орудий попадали на них грудью и, обнявши их, безутешно плакали. Тоже вот «штришок» войны, который не придумать и писателю, даже с самым богатым воображением.
* * *В 1944 году я пропустил, забыл свой день рождения. Эка невидаль, скажете вы. Маршалы, генералы забывали, а тут солдат в обмотках! Но учтите: день рождения у меня 1 Мая! И исполнилось мне в сорок четвертом двадцать лет! Уж если поют, что «в жизни раз бывает восемнадцать лет», то двадцать тем более никогда больше не повторяются. У меня, во всяком разе, не повторились. И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшее, сумбурное, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чорткова и Скалы противником (нетрудно догадаться «по почерку», что командовал в эту пору 1-м Украинским фронтом маршал Жуков). Об этих боях даже в таком, тщательно отредактированном издании, как «История Второй мировой войны», сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чорткова, была не совсем хорошо подготовлена, что «командованием 1-го Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода 1-й танковой армии противника», вследствие чего оно, командование фронта, «не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях готовящихся врагом ударов…»
Представьте себе, что на самом-то деле было в тех местах, где шли бои, аттестованные как «не совсем удачные» или «не очень хорошо подготовленные». Напрягите воображение!
Рассекать окруженную крупную группировку противника была направлена половина и нашей бригады. Вторая половина слила горючее, отдала снаряды, патроны и оружие отправленным в наступление батареям. Поначалу все шло ладно. В солнечный весенний день двигались мы вперед, раза два постреляли куда-то и на другой день достигли деревень Белая и Черная, совершенно не тронутых войною, богатых, веселых, приветливых.
Закавалерили артиллеристы-молодцы, на гармошках заиграли, самогоночки добыли. Дивчины в роскошных платках запели, заплясали, закружились в танцах вместе с нашими вояками: «Гоп, мои казаченьки!..», «Ой, на гори тай жинцы жнуть!..», «Распрягайте, хлопцы, конив…». Некоторые уж поторопились, распрягли…
Слышим-послышим: немцы Черную заняли и просачиваются в Белую! (В этом селе создан был и до отделения Украины от России действовал Музей славы, в котором основные материалы были о нашей артиллерийской бригаде, возможно, и поныне музей еще жив). Это наши войска нажали извне на окруженную группировку противника, она, сокращая зону окружения, отсекла и заключила в кольцо войска, затесавшиеся рассекать ее, в том числе и половину нашей бригады.
Шум, суета, «Всем по коням!» – по машинам значит. Сунулись в одну сторону – немцы, сунулись в другую – немцы, попробовали прорваться обратно через деревню Черную – оттуда нас встретили крупнокалиберными пулеметами, зажгли несколько машин и тяжко ранили командира нашего дивизиона Митрофана Ивановича Воробьева. Добрый, тихий и мужественный, редкостной самовоспитанности человек это был, единственный на моем фронтовом пути офицер, который не матерился. Может, мне, отменному ругателю, дико повезло, ибо слышал я от бойцов, очень даже бывалых и опытных, что таких офицеров не бывает. Бывает! Всегда и всюду мы ощущали, видели рядом уравновешенного, беловолосого, низенького ростом, Володимирской области уроженца – Митрофана Ивановича Воробьева. Он и на Днепровском плацдарме с нами оказался, в первые же часы и дни после переправы, тогда как некоторых офицеров из нашего дивизиона – да и только ли из нашего? – на левом берегу задержали более «важные и неотложные» дела, и вообще часть их, и немалая, завидев Днепр широкий, сразу разучилась плавать по воде, хоть в размашку, хоть по-собачьи, хоть даже в лодке, и на правый, гибельный, берег не спешили…
Колонна из ста примерно машин смешалась, начала пятиться в деревню Белую и здесь разворачиваться для броска через реку Буг. Тем временем в деревню действительно просочились немецкие автоматчики и взяли в оборот замешкавшихся артиллеристов. Поднялась стрельба, ахнули гранаты, все орудия и машины, упятившиеся в проулки и огороды для того, чтоб развернуться, тут же были подбиты и подожжены, деревня Белая горела уже из края в край. И вот плотно сомкнувшаяся колонна двинулась к мосту, а он уже занят немцами, и мы уже отрезаны и с этой стороны. Но колонна медленно и упорно идет к мосту. «Оружие к бою!» – полетела команда с машины на машину, и мы легли за борта машин с винтовками, карабинами, автоматами; в кузовах открыты ящики с гранатами; на кабины машин выставлены пулеметы, откуда-то даже два станковых взялось.
Приближаемся к мосту, по ту и по другую сторону которого – рукой достать – лежат немцы с пулеметами. Ждут. Каски блестят в сумерках, оружие блестит – и тишина. Ни одного выстрела! Все замерло. Только машины сдержанно работают и идут, идут к мосту. Вот первая машина уже на мосту. Ну, думаем, сейчас начнется! Впустят немцы колонну на мост, зажгут первые и последние машины и сделается каша… Но у моста немцев было не более роты, неполной, потрепанной в боях, у нас же в каждой машине по двадцать-тридцать человек, и все вооружены, все наизготовке – фашисты нам кашу или «кучу малу» устроят, но ведь и мы их перебьем! Нам более деваться некуда, нам выход один – прорываться.
Опытный, видать, у немцев командир роты был, умел считать и сдерживать себя – колонна прошла по мосту без единого выстрела. Предполагали, что хвост колонны уж непременно «отрубят», но и тут у немцев хватило ума «не гнаться за дешевизной», – ведь мы за рекой развернем орудия да как влупим по ним прямой наводкой – мясо ж и лохмотья полетят вверх…
Почти стемнело, когда мы остановились на горе, за Бугом, плотной, монолитной колонной. С горы было видно ярко полыхающую деревню, в ней что-то рвалось, брызгало ошметками огня – это горел и рвался боезапас на погибающих машинах, возле которых дрались в окружении и погибали наши расчеты и управленцы.
А в колонне царило взвинченное оживление. Какому-то хохочущему капитану лили в рот из фляжки жидкость и горстями снега терли ему лицо. По машинам пошли фляги. Я пил и удивлялся, что вода нисколь не остужает меня, но во фляге-то оказалась не вода, а самогонка. Я тогда не употреблял еще ничего крепкого, сморился и не помню уж, как металась всю ночь наша колонна по полям и деревням. К утру началась страшная метель, и нас вместе со многими получастями, штабами, госпиталями прихватило и остановило в местечке Оринин, неподалеку от Каменец-Подольска. Середина апреля, трава зеленеет, фиалки, мать-и-мачеха по склонам цветут, яблони и груши цветом набухли, а тут метель, и какая! Хаты до застрех занесло!
Утром донесли; немцы тянутся и тянутся к Оринину, сосредотачиваются для атаки. Мы оставили раненого майора – Митрофана Ивановича, командира нашего – в школе, где временно размещался госпиталь, забитый до потолка ранеными, дали ему две гранаты-лимонки, две обоймы для пистолета, и он сказал нам, виновато потупившимся у дверей: «Идите. Идите… Там, на передовой, вы нужнее…»
Бой шел долгий, кровавый, злобный, неистовый. Патронов и снарядов как у нас, так и у немцев было мало, дело дошло до рукопашных. Сказывали, что в Оринине находится штаб четвертой танковой армии и командующий четвертой генерал Лелюшенко будто бы здесь же, что стоит у него самолет наизготовке, но он не бросает свой штаб, но вот роту охраны и танки из своей охраны бросил в бой…
Если это было так, я кланяюсь от имени всех нас, бывших в Оринине под его командой бойцов, и благодарю старейшего нашего военачальника за то, что не бросил он на растерзание ни нас, ни госпитали, ни безоружные штабы. А ведь знал он, знал примеры и иного порядка: бросали не только штабы, но и армии целиком, и не по одной, по три и по пяти даже некоторые горе-генералы наши…
Вот тогда, в те жестокие и кровопролитные весенние бои под Каменец-Подольском, и затем под Тернополем и забыл я о своем дне рождения. И Бог с ним! Зато внуки мои имеют возможность отмечать ежегодно именины свои, получать подарки, петь, плясать и радоваться жизни.
* * *Видите вот, опять меня от «битв и быта войны» унесло вроде бы в сторону. Что же все-таки такое, этот самый быт? Солдатский? Есть у меня в Алтайском крае, в Кытмановском районе, в деревне Червово, фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко, как и многие переселенцы с Украины, он к своему хохлацкому, упрямому и самостийному характеру прихватил еще сибирской прямоты, грубости и безотчетного чувства справедливости. Мы с ним прошли все части: стрелковый полк, автополк и в 92-й бригаде попали с пополнением в один дивизион, во взвод управления. Я детдомовщина, более подвержен «мимикрии», приспособлен к народу, к общежитию, к обстоятельствам, к голоду, к холоду, ко всевозможным лишениям, ловок, мягок когда надо, и «артист» к тому же – могу прикинуться кем и чем угодно. Да и начитан уже был изрядно, защищен и с этой стороны и, чего там скрывать, добытчик харча с подзаборных времен был находчивый.
Мне до какой-то поры удавалось смягчать, иногда заслонять собою прямую простоту сопутника и дружка моего, которая порой бывала хуже воровства. Всем он лепил «правду-матку» в глаза, матерно выражал свои чувства и отношение к командирам. Ну и, естественно, они его недолюбливали, а начальник штаба дивизиона, после ранения Митрофана Ивановича сделавшийся командиром этого подразделения, по военному статусу равному полку, моего громыхалу-корешка просто терпеть не мог, и до того он догноил, догонял, досрамил, довел Петьку, что однажды, обливаясь слезами, тот взревел по-бугаиному: «До танкистов пиду! Визмуть мэнэ водителем – я ж тракторыст. Сгору у тым танку, йего мать!»
Крупный телом – торчит нелепая его фигура где надо и не надо, раздражает командирский глаз, голос рокочущий, хохотун и выпивоха, силы богатырской, нраву, знал я, добрейшего – последний кусок хлеба разделит, из последних сил поможет Петро мой. Когда я вернулся недолеченный из госпиталя, култыхаю, бывало, как худая кляча, на передовую, на наблюдательный пункт, с двумя катушками провода на горбу, с оружием, подсумками, телефонным аппаратом и падать начинаю самым натуральным образом, из темноты просунется ручища, снимет с моей взмыленной спины катушки, со звяком забросит их на свои «Да ладно, Петька, – робко начну я перечить, – как-нибудь сам…» «Мовчы, йего мать!» – прорычит мой друг, истинный друг, и попрет две тяжкие солдатские и связистские ноши вперед, на запад. Я уж ему толковал, что чем «до танкыстив» идти, лучше уж нам вместе «к Шумилихину податься» – знаменитость это местного масштаба, прославленная личность в нашей дивизии была, и о нем, о Шумилихине, речь впереди. Тем и удержал я своего преданного друга от опрометчивого поступка – он бы по его уму и характеру в самом деле рванул «до танкыстив», и, глядишь, судили бы его как дезертира.
Потел Петро во время работы очень сильно, а работы у артиллеристов адской и бесконечной тьма, и от пота не только белье и гимнастерка, но и телогрейка у друга моего насквозь бывала мокрая. Руки его потрескались от сырого черня лопаты, на плечах коросты от бревен, таскаемых на перекрытия, потную одежду промораживало зимой, инеем покрывало, простывал и кашлял Петро страшно, на мокро садилась пыль, и к середине лета гимнастерка на Петре изнашивалась в лоскутья, становилась черная, словно хромовая. Всегда сырая на нем была одежда, с бельем и телом слипшаяся. Закручу, бывало, в горсть гимнастерку на спине друга, а из нее выжимается желтая, липкая, как смола, жижа. Прелая гимнастерка через край грубыми нитками зашитая. В кармане гимнастерки были у Петра письма и фотографии матери, любимой девушки и наша с ним – снялись в Святошино, под Киевом, когда были на переформировке – и вот, мокром и солью «съело» фотографии, письма от любимой девушки «съело и размыло в кашу», ладно, что у моей деревенской тетки сохранилась наша фотография. Как он радовался, когда я послал ему копию с нее и написал о нем какие-то добрые слова в газете «Красная звезда». На фронте он не часто слышал добрые слова, да и потом, работая много лет председателем и заместителем председателя крупного, надсаженного войной колхоза, немного их слышал. В прошлом году вышел Петро – Петр Герасимович Николаенко на действительно заслуженную в труде пенсию.
Еще немножко быта, да? Ну, уж тогда самого грубого, такого, какового в наше благопристойное, многословное кино на сто верст не допускают. Вот представьте себе траншею и в ней человек пятьсот народу. Народ, он хоть и солдатами зовется, все равно остается человеками. А человек – существо громоздкое, неловкое, много вокруг себя всяких дел делающее, хламу оставляющее. К нам, в красноярский Академгородок, из-за снежных заносов не приходила «мусорка» несколько дней – и мы обросли сором, завоняло у нас из отбросных ведер. Д-а-а. Солдатику надобно три или хотя бы два раза поесть в день, неотложную нуждишку справить и, если прижмут «оттеда» – с другой, значит, стороны, справлять ее приходится на дно окопа, затем «добро» лопаткой на бруствер выбрасывать. И вот пятьсот-то человек, да в жару, да недельку, а то и месяц, как побросают, да ежели еще на поле боя и на «нейтралке» разбухшие, разлагающиеся трупы людей и лошадей валяются представляете, что это такое? Вонь, мухота, крысы откуда-то возьмутся, по-фронтовому осатанелые, наглые, случалось, раненым носы и уши съедали, мертвых пластали в клочья, дрались в окопах с визгливым торжеством, «окапывались», и справляли свадьбы, и окотывались здесь же.
А вши? Кто-нибудь, кроме фронтовиков, может себе представить во всей полноте это бедствие? Изнуряющее, до тупости доводящее…
Я как увижу в современном театре или военном кино артистов с гривами, девиц с косами, разодетых в хромовые сапожки, под музыку вальсы и танго танцующих или с ранением в живот исполняющих романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он…», так мне хочется взять утюг и шарахнуть им в телевизор. И ведь эта красивая, «киношная» война сделалась куда как привычней и приятней для сердца и глаза, чем та, которая была на самом деле. Есть даже термин: «Комедия о войне!» – хоть бы вслушались в дикость этих слов! Хоть бы почувствовали кощунство и глумление их, если не сердцем, то умишком, пусть и коллективно-руководящим. Миллион людей в Ленинграде, в основном детей и стариков, поумирали от мучительной, голодной смерти. Сотни тысяч пленных погибли в жутких немецких концлагерях, муки мученические пережили наши беззаветные труженицы-сестры, матери и дочери, надорвавшиеся в тылу непосильным трудом, от многих ран в госпиталях и на поле боя погибли десятки миллионов людей, раны у старых бойцов болят до сих пор и не дают им спать ночами, а тут – комедия! О войне! «Мы парни бравые, бравые, бравые!..» А? Каково?!..
* * *Да ладно. Эта комедия комедией и задумана, но когда пытаются вроде бы всерьез поведать о войне, да получается комедия с показом такого «героизма», что война уж выглядит нелепым фарсом – в таких комедиях запросто, одной каской, десять фрицев уложил наш боец, да еще и песенки напевая, такой он насмешливый и неустрашимый, в таких комедиях драпают тучами ошалелые фашисты-статисты, крича по-рязански или по-вологодски: «Гитлер капут! Гитлер капут!», в таких комедиях наши бойцы запросто, будто с игрушками, расправляются с немецкими танками посредством гранат и зажигательных бутылок – зачем только и нужна тогда была нам артиллерия, авиация и танки? Лишние расходы!
Кстати, и привыкли наши военачальники к подобной войне, уж явное превосходство над немцами в танках имели, а все боролись с танками и останавливали танковые наступления в основном артиллерией, не стесняясь ставить на прямую наводку и наши «лайбы», а ставить их «на прямую» можно было только с горя и от нужды, как говорил командир 92-й бригады генерал Дидык.
Конечно, когда против сотни танков противника выставляется тысяча орудий, артиллеристы в конце концов завалят снарядами, выбьют технику противника, как об этом сильно и точно написано в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Но какие при этом потери? Ведь как-никак открытая со всех сторон пушка воюет против бронированной громады. Что-то я нигде не читал у наших военачальников и не слышал от них, чтобы они раскаивались в том, что из-за подобной стратегии на войне и массового героизма опустела русская деревня. У нас были и остались настроения: все огромные, часто неоправданные потери на войне списать на Победу и этим утешиться. Да что-то не очень утешается, как насмотришься да наслушаешься наших вдов и в сиротстве выросших детишек.
В наших комедиях фанерные танки палят без устали, на ходу, хотя любой вам танкист, с подлинного танка, скажет, что это нелепость, что на ходу можно стрелять только сдуру и для испугу и попасть в цель можно лишь случайно, что после четырех-пяти выстрелов танк, даже новейший по тем временам, полон дыма и поэтому выстрелами, особенно первыми, когда все еще видно и кашель не забивает экипаж, надо дорожить и стрелять как можно точнее, иначе попадет самому: танк – цель очень большая и видная.
В подобных же комедиях палят из автоматов и косят врагов, как траву, и столь метко и много палят, что в диске автомата должно быть по крайней мере тысяча патронов. Но в круглый диск автомата входило девяносто, чтобы пружины не зажало, чаще всего снаряжали автоматные диски половиной патронов, в «рожок» входило сорок пять, повторяю, в рожке и в диске были очень тугие пружины, и более пятидесяти патронов опытный боец в диск никогда не заряжал, иначе в самый опасный момент поставит патрон «на попа» или перекосит его, затвор в автомате был почти полностью открыт, и от попавшей в него земли и особенно песка оружие это часто «заедало».
Автомат наш был малоприцельным оружием, «ближнего боя», очень ненадежным, и «старички» – опытные солдаты, постреляв из него и попользовавшись им, постепенно перешли обратно на матушку-винтовку; мы, связисты, – на карабины, эти никогда не отказывали, и все в них было для боя полностью: обойма о пяти патронах: с белой, красной, черной, зеленой и простой головой. Белая – разрывная, красная – зажигательная, черная – бронебойная, зеленая – трассирующая – чего еще надо-то? Весь боевой «арсенал» при тебе! И прицельность у карабина такая, что в воробья-беднягу попадали за сто шагов, Я из карабина в Польше немца убил, Во время боя. Нет, нет, не матерого эсэсовца, не тучного «обера», а худосочного какого-то работягу или крестьянина, в редкой белесой щетине. Котелок у него на спине под ранцем был, и этот котелок и сгубил человека – цель заметная. Под него, под котелок, я и всадил точнехонько пулю, когда немец перебежками пошел ко клеверной скирде, за которой, видать, сидел командир, а был «мой» немец, очевидно, связным. По молодой, беспечной глупости я после боя сходил посмотреть «моего» немца – и с тех пор он преследует меня. Случалось у меня, и не раз, «материал», угнетающий душу, выложишь на бумагу, и он «утихнет», «отстанет» от тебя. Про немца, убитого мною, я уж давно собираюсь написать, чтоб избавиться от него. (Написал в повести «Веселый солдат», но избавился ли?)
Вот такая «комедия». Между прочим, ни разу я не слышал, чтоб «зарубили» кино или книгу со лжепатриотической, шапкозакидательской войной. И сколько же породили приспособленцы всех мастей ура-патриотизма, сколько состряпали лжегероев, демагогов, военных кавалеров, красавчиков-лейтенантов, миловидных игрунчиков-хохотуш-санинструкторш и совершенно отрешенных от мира, насквозь героических и до того непреклонных радисток диверсионных и партизанских отрядов, что уж невольно начинаешь думать: слава те, Господи, судьбою обнесло – жена у меня не радистка, обычный военный медик, сержант, – душу же леденит и сжимает от одного неустрашимого взгляда радистки-разведчицы.
* * *Ну вот, заговорил я и о сегодняшних противоречиях в жизни и искусстве, а память отринула меня снова к войне. Были противоречия и на фронте. Да еще какие! Очень даже разнообразные и всегда кровавые.
Расскажу об одном из них.
Весной 1945 года 17-я Киевско-Житомирская дивизия вместе с другими соединениями блокировала Берлин с западной стороны, и, когда город капитулировал, на запад хлынули тучи немецких войск. Несколько суток шла невиданная и неслыханная по крови и жертвам бойня. Дело дошло до того, рассказывал мне командир дивизии, что на огневых позициях артиллеристы рубили топорами и лопатами озверелых и обезумевших фашистов. В тех последних на территории Германии боях дивизия потеряла две с половиной тысячи человек, испытанных огнем, боевых и славных артиллеристов, почти доживших до желанного Дня Победы. Противник понес потери десятикратно большие.
За бои под Берлином Сергей Сергеевич Волкенштейн был удостоен звания Героя Советского Союза, не он, конечно, один, но речь пойдет пока лишь о нем. Звезду Героя ему вручил командующий 1-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев – в обход руководства артиллерии фронта.
Отчего же в обход-то?
А вот отчего. До войны, после многих приключений в своей жизни, Сергей Сергеевич Волкенштейн, как я уже писал, возглавлял Киевское артиллерийское училище и ни сном ни духом не ведал, что сведет нас судьба – воистину земля круглая!
Был в одном из подразделений, которым командовал еще в тридцатых годах недисциплинированный, зато нахрапистый и ловкий офицер, которого начальник его не раз и не два наказывал за разгильдяйство, пьянство и наглость.
Определивший в Сибири училище генерал Волкенштейн был отозван Ставкой и возглавлял штаб артиллерии на Волховском фронте и первую артподготовку провел под Шлиссельбургской крепостью, в которой его бабушка-каторжанка, Людмила Михайловна, в девичестве Александрова, провела тринадцать лет. Затем генерал приступил к формированию крупного артиллерийского соединения, которое сам же и возглавил, которое зачал с артполков, бывших в «деле» на Волховском фронте – так и началась 17-я дивизия, сформировав которую, Волкенштейн ее и возглавил. И он это крупное артсоединение не просто сформировал и возглавил, но в процессе формирования провел модернизацию артиллерии. Многие орудия были «переставлены» со старого, тяжеловесного хода на новый, облегченный; наши «лайбы», например, с тракторной тяги были переведены на тягу автомашинную, на «студебеккеры», и вместо 13–15 километров бригада могла за ночь сделать бросок на 60–70 километров. Части дивизии сделались более маневренными, что и требовалось для будущих наступательных боев.
И вот могучая дивизия движется с боями вперед на запад, и никто, даже сам командир дивизии, не знает, что она одновременно приближается к большим, непредвиденным, нежданным испытаниям и даже бедам. Тот самый офицер, что был когда-то в подчинении Волкенштейна и терпел от него утеснения, очень ловкий карьерист, стремительно продвинулся в званиях и чинах – путных-то военачальников поистребляли, – оказался ни много ни мало, как начальником артиллерии 1-го Украинского фронта.
Далее я перескажу то, что с большой горестью и болью рассказал мне Сергей Сергеевич:
«Начальник артиллерии фронта артиллерист был слабый, зато карьерист оказался сильный – такой вот каламбур! Вместе с чинами и званиями росло чванство и самодурство злопамятного человека, но ума не прибавилось.
Решил он во что бы то ни стало отомстить мне за прошлые обиды и начал «подставлять» мою дивизию так и в такие места, чтоб она погибла, а я чтоб головы не сносил. Но ведь «подставлял»-то он не абстрактную цифру семнадцать, не номер дивизии, и не меня, наконец, а вас, дорогих моих бойцов, беззаветных, иначе и не скажешь, тружеников. Трижды, четырежды, до гробовой доски я буду виноват невольной виной перед вами, мои дорогие парнишечки, особенно гнетет вина перед погибшими, израненными и изувеченными. Бывает, соседняя наша дивизия, большинство частей которой оставалось на тракторном и даже конном ходу, трюхает к фронту не торопясь, моя же дивизия, модернизированная, подвижная, уж навоюется досыта, и вы там, на передовой, ребятки мои, уже не раз умоетесь кровью. Соседу за «аккуратность» в потерях, за экономию горючего и снарядов – благодарность, мне за перерасходы – выволочка; соседям – ордена и отдых, моим бойцам марш, марш и не только награды, но и харчи в последнюю очередь.
Однако главное было: воевать, победить врага, исполнить свой долг. После гибели Ватутина был Жуков командующим 1-м Украинским фронтом, затем Конев, опять Жуков, опять Конев. Смена командующих как-то мне и помогала «спрятаться», приспосабливаться к обстановке, иметь дела непосредственно с действующими армиями, от них и с помощью их снабжаться, пополняться. Но корпус-то прорыва! Он, корпус, и, значит, дивизии – в непосредственном подчинении командования артиллерией фронта, хоть и числятся за эргэка. Но до Москвы далеко, до этого самого эргэка высоко, командование же артиллерии – вот оно, тянет к телефону, к рации и, не подбирая выражений, угрожает, кроет седого, потом обливающегося генерала. Все крупные прорывы, артподготовки планировались, подготавливались и утверждались в штабе фронта. Не больно-то спрячешься. То ли дело ваш брат, битый боец, – хитрюга, занырнет в щель, в окоп, в воронку, заляжет в кустах со своим имуществом – вещмешком и винтовкой, и посапывает там себе, спит – и ищи его – свищи!..