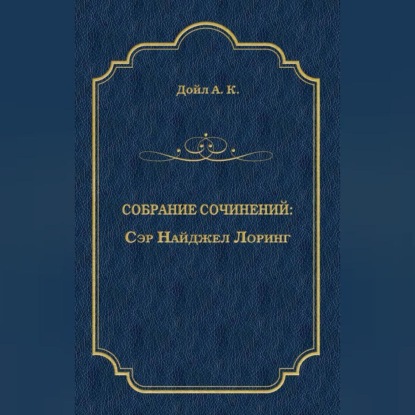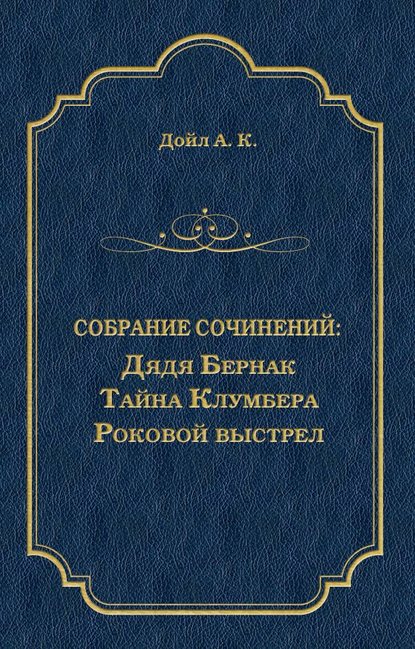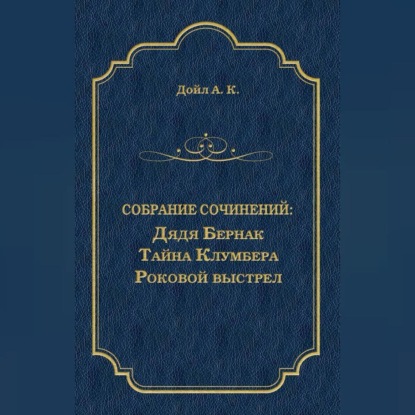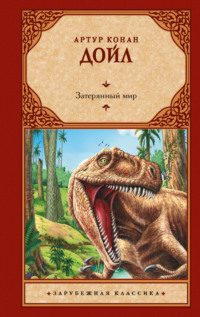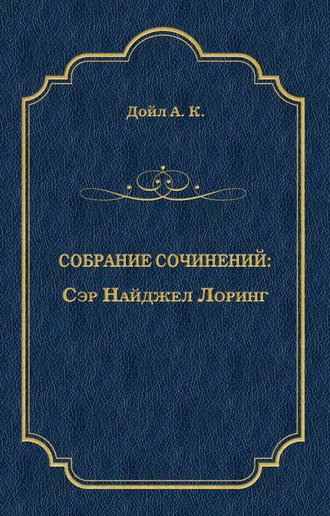
Полная версия
Сэр Найджел Лоринг

Артур Конан Дойл
Сэр Найджел Лоринг
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», состав, 2009
* * *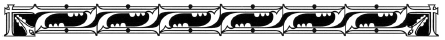
Глава I
Дом Лорингов
В июле месяце 1348 года, между днями св. Венедикта и св. Свитина, Англию поразило странное бедствие: на востоке вдруг появилась безобразная зловещая багровая туча и стала медленными клубами наползать на притихшее небо. В тени этой невиданной тучи увядала листва, замолкали птицы, а коровы и овцы жались к изгородям. На землю пала тьма, толпы людей молча стояли, вперив глаза в тучу, и сердца их наливались тяжестью. Народ с трепетом собирался в церквах, и там дрожащую толпу исповедовали и благословляли дрожащие священники. А за стенами церкви больше не порхали птицы, не слышалось лесных шорохов и обыденного многоголосья природы. Все затихло и застыло, одна только огромная туча ползла, как чудовищный вал, над черным горизонтом. На западе еще виднелось ясное небо, с востока же неспешно надвигалась эта облачная громада, пока наконец не исчез последний голубой просвет и весь небосвод не превратился в сплошной свинцово-серый купол.
Потом начался дождь. Он лил весь день и всю ночь, лил целую неделю и целый месяц, пока люди не позабыли, что такое синее небо и солнечный свет. Дождь был не сильный, но холодный, и лил, не переставая ни на миг. Людей изводил его непрестанный шорох и плеск струй, стекающих с кровли. И все время по небу, сея влагу, ползла с востока на запад эта разбухшая зловещая туча. Сквозь водную пелену, гонимую ветром, ничего нельзя было разглядеть уже в двух шагах от жилья. По утрам все первым делом задирали голову – не появится ли где просвет, но взгляд встречал все ту же бесконечную тучу, и, наконец, люди перестали смотреть на небо, и сердца их переполнились отчаянием, оттого что всему этому не было конца. Дождь шел и на св. Петра, и на Рождество Богородицы, и в Михайлов день. Хлеба и сено промокли, почернели и погнили прямо на полях, потому что убирать их не стоило труда. Потом пали овцы и телята, и к св. Мартину на убой и зимнюю засолку не осталось почти никакой скотины. Народ боялся грядущего голода. Но то, что ожидало его, было куда страшнее.
Дождь наконец перестал, и хилые лучи осеннего солнца осветили вязкую жижу, в которую превратилась земля. Мокрые листья гнили, испуская зловоние, под пологом мерзостного тумана, который поднялся над лесом. Поля покрылись отвратительными грибами – раньше таких никто не видывал – огромными, багрово-лиловыми, коричневыми и черными. Казалось, на теле больной земли высыпали гнойные прыщи; стены домов покрылись плесенью и лишайником, и сразу вслед за этой отвратительной порослью на раскисшей земле взошла Смерть. Люди стали умирать: мужчины, женщины и дети; бароны в своих замках и свободные крестьяне на своих подворьях; монахи в монастырях и крепостные в лачугах. Все вдыхали одни и те же гнилостные испаренья, и все умирали одной и той же смертью – заживо разлагаясь. Никто из пораженных этой болезнью не выздоравливал. Болели все одинаково: на теле появлялись огромные нарывы, человек впадал в бред, кожа его покрывалась черными пятнами, от них-то и пошло название болезни – черная смерть. Всю зиму разлагающиеся трупы лежали на обочинах дорог, хоронить их было некому. Во многих деревнях не осталось ни души. Но вот пришла весна, а с ней солнце, здоровье и радость. Это была самая зеленая, самая прекрасная и ласковая весна, которую когда-либо знала Англия. Но увидела ее только половина народа – другую смела с лица земли та огромная багровая туча.
И все же именно в это время, в мутном потоке смертей, в гнилостных испарениях, рождалась новая Англия, более прекрасная и свободная.
Тогда, в эти мрачные часы, забрезжил первый проблеск новой зари: только такое страшное потрясение, разом изменившее всю жизнь, могло вырвать народ из железных цепей феодализма, сковавших его по рукам и ногам. Из смертного мрака выходила новая страна. Под косой смерти полегли, как скошенная трава, бароны. Уберечь от этой угрюмой простолюдинки, разившей всех без разбора, не могли ни высокие башни, ни глубокие рвы. Деспотические порядки смягчились, они уже не могли больше ужесточиться. Земледелец не желал дальше оставаться рабом. Он сбросил оковы. Дела было слишком много, а людей слишком мало. Поэтому тем немногим, кто остался в живых, предопределено было стать свободными: свободно продавать свой труд, наниматься к кому пожелают. И именно черная смерть расчистила путь для великого восстания[1], которое началось тридцать лет спустя и сделало английского крестьянина самым свободным крестьянином в Европе.
Но таких, кто смотрел далеко в будущее и видел, что из зла, как это всегда бывает, произрастает добро, было очень мало. Покамест же в каждой семье царили нищета и горе. В одночасье пересохли все источники благоденствия: пал скот, погиб урожай, земли лежали непаханые. Богачи стали бедняками, а те, кто и раньше был беден, особенно бедняки из благородных, оказались и вовсе в безвыходном положении. По всей Англии разорилось мелкое дворянство, которое не знало иного ремесла, кроме войны, и потому жило за счет чужого труда. Для многих поместий наступили черные дни, но хуже всего пришлось Тилфорду, поместью, которым владели уже несколько поколений благородной семьи Лорингов.
В былые времена Лорингам принадлежали все земли от Северных холмов до Френшемских озер, а их мрачный замок, вздымавшийся над зелеными лугами на берегах реки Уэй, был самой неприступной крепостью меж Гилдфордом на востоке и Уинчестером на западе. Но потом пришла война баронов[2], король превратил своих саксонских подданных в кнут для укрощения норманнских баронов, и замок Лорингов, подобно многим другим, был стерт с лица земли. С той поры Лоринги, потеряв большую часть своих поместий, жили в доме, который был вдовьей частью, имея самое необходимое, но лишенные былой роскоши.
Потом началась их тяжба с Уэверлийским аббатством, когда цистерцианцы[3] предъявили притязания на их лучшие земли и феодальные права на все остальное. Великая тяжба тянулась много лет, а когда кончилась, это богатейшее поместье поделили между собой церковники и законники. Но старый господский дом сохранился, и в каждом поколении его обитателей рождался воин, с честью носивший свое имя: пять алых роз на его серебряном щите всегда были там, где им и надлежало быть, – впереди. В часовенке, где отец Мэтью каждое утро служил мессу, было двенадцать бронзовых фигур – воинов из рода Лорингов. Двое лежали скрестив ноги, как положено крестоносцам. Шестеро попирали ногами львов – они пали в битве. И только возле четверых были изображения их собак – в знак того, что они почили в мире.
Из всего этого славного, но разоренного рода, разоренного дважды – правосудием и чумой, в 1349 году в живых оставалось только два человека – леди Эрментруда Лоринг и ее внук Найджел. Муж леди Эрментруды пал от руки шотландского копейщика в битве при Стерлинге, а сын ее Юстас, отец Найджела, умер славной смертью за десять лет до начала нашего повествования на борту норманнской галеры в битве при Слёйсе[4]. Одинокая старая леди, ожесточившаяся и погруженная в скорбь, сидела, как сокол в клетке, у себя в комнате и была добра только к мальчику, которого вырастила. Дарованная ей природой любовь и нежность, так глубоко упрятанная от постороннего глаза, что никто не мог даже заподозрить в ней подобных чувств, изливалась на Найджела. Она не отпускала его от себя, а он, исполненный уважения к авторитету старших, как того требовали обычаи времени, никуда не отлучался, не получив ее согласия и благословения.
Поэтому Найджел, у которого было львиное сердце, а в жилах бурлила кровь многих поколений воинов, в свои двадцать два года все еще влачил тоскливые дни в поместье, натаскивая соколов и собак, которые делили со своими хозяевами большой зал с земляным полом. Старая леди Эрментруда видела, что день ото дня внук мужает и набирается силы и, хотя он не вышел ростом, мышцы его тверды как сталь, а душа пылает огнем. Со всех сторон – от гилдфордского кастеляна, с фарнемского турнирного поля – до нее доходили толки о его дерзкой удали и смелости, о том, как он бесстрашен в скачке и как мастерски владеет оружием. И все же она, потерявшая мужа и сына, не могла смириться с мыслью, что и этот мальчик, единственный потомок Лорингов, последний отпрыск такого славного старого древа, разделит их участь. С тяжелым сердцем, но с улыбкой на устах проводил он свои монотонные дни, пока она под разными предлогами оттягивала страшный миг, то до той поры, пока урожаи не станут богаче, то пока монахи из Уэверли не вернут им отнятые земли, то пока не умрет его дядя и не оставит ему денег на снаряжение, словом, под любым предлогом, какой мог удержать внука возле нее.
И правду сказать, Тилфорду никак было не обойтись без мужчины, потому что распри с аббатством так и не прекращались, и монахи до сих пор то и дело пытались отхватить то один, то другой кусок земли своих соседей. Над излучиной реки, за зелеными лугами поднималась невысокая квадратная башня и высокие серые стены мрачного монастыря. Колокола его не умолкали ни днем, ни ночью, грозя маленькой семье новыми бедами.
В сердце этого огромного цистерцианского монастыря и зародилась наша хроника, повествующая о распре между монахами и домом Лорингов со всеми последующими событиями, вплоть до прибытия Чандоса[5], о пресловутой схватке копейщиков на Тилфордском мосту и о подвигах, которые принесли Найджелу воинскую славу…
Давайте вернемся вместе в прошлое и взглянем на зеленую сцену Англии. Декорации на ней те же, что и в наше время: холмы, равнины и реки; актеры же, хотя во многом тоже похожи на нас, но многим отличаются – мысли, поступки у них иные, и кажутся они обитателями не нашего мира.
Глава II
Как Уэверли посетил дьявол
Было первое мая, праздник святых апостолов Филиппа и Иакова. Шел 1349 год со дня пришествия Спасителя.
Время с трех часов до шести, а потом с шести до девяти преподобный отец Джон, настоятель монастыря Уэверли, проводил у себя в покоях, занимаясь соответственно своему высокому званию многочисленными важными делами. На много миль во все стороны простирались тучные земли процветающего монастыря, и он был их полновластным хозяином. В центре усадьбы размещались обширные здания аббатства: церковь, кельи, странноприимный дом, зал капитула и трапезная, и повсюду кипела жизнь. В открытое окно доносились приглушенные голоса братьев, которые прогуливались внизу под аркадами, ведя благочестивые беседы. Из монастыря, то усиливаясь, то затухая, доносились григорианские песнопения – там регент старательно занимался с хором, а внизу, в зале капитула, брат Петр скрипучим голосом втолковывал послушникам устав св. Бернара.
Аббат Джон встал и потянулся. Потом выглянул наружу и осмотрел зеленую лужайку и изящные ряды готических арок крытой галереи, по которой в черно-белых одеждах прогуливалась братия. Монахи медленно ходили парами по кругу, низко склонив голову. Несколько человек, кто поусерднее, вынесли из библиотеки фолианты и сидели на солнце, разложив перед собой дощечки с красками и стопки тонких, полупрозрачных листков золота. Опустив плечи, они низко склонялись над белым пергаментом. Там же сидел и гравер по меди со своими резцами. Правда, в отличие от основного ордена бенедиктинцев занятия искусствами и науками не были в обычае цистерцианцев, но вся библиотека Уэверли хранила много драгоценных манускриптов, которыми занимались благочестивые ученые братья.
Славились, однако, цистерцианцы не учеными трудами, а земледельчеством. По монастырскому двору то и дело проходили монахи с грязными мотыгами и лопатами, в рясах, подоткнутых до самых колен, загорелые, только-только с полей или из садов. Тучные длиннорунные овцы на буйной зелени заливных лугов, пашни, отвоеванные у вересковых пустошей и зарослей папоротника, виноградники, спускавшиеся с южного склона Круксберийского холма, рыбные садки в Хэнкли, огороды на осушенных Френшемских болотах, просторные голубятни – вот что окружало огромный монастырь и без слов говорило об упорных, тяжелых трудах ордена.
На полном румяном лице аббата заиграла довольная улыбка, когда он обвел взглядом свое обширное, но прекрасно налаженное хозяйство. Как и всякий глава процветающего монастыря, преподобный Джон, уже четвертый носивший это имя, был человеком разносторонне образованным. При помощи им самим изобретенных методов ему приходилось управлять немалым хозяйством, а заодно поддерживать порядок и благочиние среди большого сообщества людей, давших обет безбрачия. От тех, кто стоял ступенью ниже, он требовал жесткой дисциплины, в сношениях со стоявшими выше был тонким дипломатом. Он вступал в ожесточенные споры с соседними монастырями и лордами, с епископами и папскими легатами, а при случае и с самим его величеством королем. Положение обязывало его знать очень многое и разрешать самые разные споры о самых разных вещах: о философии и лесным хозяйстве, о земледелии, об осушении болот, о феодальных законах. В его руках были весы правосудия всей округи, простиравшейся на много-много миль – от Гэмпшира до Суррея. Гнев его грозил монахам постом, ссылкой в обитель с более суровыми порядками и даже ввержением в оковы. Мирян он тоже мог подвергать всяким наказаниям, кроме смертной казни, впрочем, в руках у него было оружие пострашнее – отлучение от церкви.
Вот такой властью наделен был аббат, и неудивительно, что на румяном лице его лежал отпечаток этой власти, а братия, перехватив его внимательный взгляд из окна покоев, спешила принять еще более смиренный и благочестивый вид.
Стук в дверь вернул настоятеля к текущим делам, и он снова сел за стол. Он уже переговорил обо всем с экономом, приором, раздавателем милостыни, капелланом и чтецом, а теперь в высоком худом монахе, который, повинуясь его жесту, вошел в покои, он узнал самого важного и самого изворотливого из своих доверенных лиц, брата Сэмюэла, ризничего, который, подобно управляющему светским поместьем, смотрел за монастырским имуществом, вел дела с внешним миром и отчитывался только перед аббатом. Брат Сэмюэл был сух, жилист и стар; суровые резкие черты его лица не одухотворялись светом свыше и отражали лишь тот низменный, будничный мир, что был его уделом. Под мышкой он держал толстую счетную книгу, в свободной руке болталась большая связка ключей, знак его должности, а также, под горячую руку, и орудие расправы, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы на головах крестьян и братьев-мирян.
Настоятель тяжко вздохнул: усердный брат доставлял ему немало хлопот.
– Ну, брат Сэмюэл, в чем дело?
– Святой отец, я пришел доложить, что продал шерсть господину Болдуину из Уинчестера на два шиллинга за тюк дороже, чем в прошлом году. Цены-то на шерсть после овечьего мора поднялись.
– Хорошо сделал, брат.
– Еще вот что: я выкинул Уота, арендатора, из его халупы, потому что он с самого Рождества ничего не платит да налог на кур за прошлый год еще не внес.
– Но, брат, ведь у него жена и четверо детей.
Настоятель был добр и мягок. Впрочем, он довольно легко уступал своему суровому подчиненному.
– Так-то оно так, святой отец, да только если я ему спущу, то как же мне стребовать налог с патнемских лесников или с деревенских крестьян? Такие слухи разлетаются быстро. И что тогда станется с богатствами Уэверли?
– Что еще, брат Сэмюэл?
– Еще садки.
Лицо у настоятеля просветлело. В этом деле он был знатоком. Правила ордена отняли у него более нежные услады жизни; с тем большим жаром он отдавался радостям дозволенным.
– Как там хариусы, брат мой?
– Прекрасно, святой отец. Да вот в аббатском садке стали пропадать карпы.
– Карп хорошо себя чувствует только в пруду с песчаным дном. И запускать его в садок надо умеючи – три самца на одну самку с икрой, брат ризничий. Садок должен быть в локоть глубиной, дно каменистое, с песком, а по берегу – ивы и трава. И чтобы там не продувало. Линь любит ил, а карп – песок.
Тут ризничий подался вперед с видом человека, принесшего дурные вести.
– В аббатском садке завелись щуки.
– Щуки! – в ужасе воскликнул настоятель. – Это все равно, что волки в овчарне. Откуда взялись в пруду щуки? В прошлом году не было никаких щук, а ведь щуки не выпадают с дождями и не бьют из ключей. Пруд надо спустить, иначе в Великий пост нам придется есть одну вяленую треску, и все начнут болеть до самого Светлого воскресенья, пока оно не разрешит нас от воздержания.
– Пруд непременно спустят, святой отец, я уже распорядился. В ил посадим зелень, а когда уберем ее, снова напустим воды и рыбы из нижнего садка, пусть жирует на стерне.
– Очень хорошо! – воскликнул настоятель. – Я бы в каждом хорошем хозяйстве имел по три садка: один без воды, один мелкий для мальков и сеголеток и один глубокий для зрелой и столовой рыбы. Но все же, как щуки попали в аббатский садок?
Лицо ризничего исказилось от злости, и ключи, которые он с силой сжал в костлявой руке, загремели.
– Это все молодой Найджел Лоринг! – сказал он. – Он пообещал навредить нам, вот и выполнил свое обещание.
– Откуда ты знаешь?
– Полтора месяца назад видели, как он каждый день ловил щук на большом Френшемском озере, а два раза его встречали ночью с охапкой соломы в руках у Хэнклийского холма; я-то знаю, что солома у него была мокрая, а в ней лежали живые щуки.
– Я наслышан о его выходках, – покачал головой аббат, – но теперь, если все, что ты сказал, правда, они перешли все границы. Ведь это он, по слухам, застрелил королевского оленя в Вулмер-Чейз, и одно это уже непростительно. А потом еще проломил голову этому борцу Хоббсу, и тот неделю пролежал у нас в лазарете между жизнью и смертью. И спасло его только то, что брат Петр – искусный травник. Но напустить щук в аббатский садок – что за дьявольская затея!
– Он ненавидит наш монастырь, святой отец. Он говорит, что мы захватили земли его отца.
– Ну, в этом есть доля правды.
– Но, святой отец, мы взяли только то, что дал нам закон.
– Твоя правда, брат, но все же, между нами говоря, надо признаться, что полный кошелек часто перетягивает весы правосудия. Когда мне случается проходить мимо старого дома и видеть эту краснолицую старуху с недобрым взглядом, источающим проклятья, которые она не осмеливается произнести, мне всякий раз хочется, чтобы у нас были какие-нибудь другие соседи.
– Это легко сделать. Об этом я и шел поговорить с вами. Нам ничего не стоит согнать их с места. Недоимки скопились у них за добрых тридцать лет, а в Гилдфорде есть стряпчий Уилкинз, который вчинит им такой иск, что этим нищим гордецам придется продать крышу над головой, чтобы заплатить все сполна. Через три дня они будут у нас в кулаке.
– Я не хотел бы обойтись с ними слишком жестоко. Это славный старинный род.
– Вспомните о щуке среди карпов.
При этой мысли сердце аббата исполнилось твердости.
– Да уж, и впрямь дьявольская выходка. А мы только-только пересадили туда новую молодь. Ну что ж, закон есть закон. И даже если он несет в себе горе, все равно он закон. Иски уже предъявлены?
– Стряпчий со своими людьми ходил туда вчера, да этот ярый юнец набросился на него и гнал до самого Гилдфорда. Парень мал ростом, да тонок, но, уж как разойдется, посильнее многих будет. Законник божится, что шагу туда больше не сделает, разве что с полудюжиной лучников.
При этом новом оскорблении лицо настоятеля вспыхнуло гневом.
– Я покажу ему, что слуги святой церкви, даже если это покорнейшие и смиреннейшие ее чада из ордена святого Бернарда, могут постоять за себя и дать отпор любому наглецу. Теперь ступай и вызови его на аббатский суд. Пусть завтра после трех явится в капитул.
Но осторожный ризничий покачал головой.
– Нет, святой отец, еще не подошло время. Дайте мне три дня, и все иски против него будут готовы. Нельзя забывать, что и отец и дед этого дерзкого сквайра прославили себя подвигами и были первыми рыцарями на службе у самого короля. Они жили в чести и умерли, исполняя свой рыцарский долг. Нынешняя леди Эрментруда Лоринг была первой фрейлиной у матушки короля. Роджер Фиц-Аллен Фарнемский и сэр Хью Уолкотт из Гилдфорского замка сражались бок о бок с отцом Найджела и приходятся ему родней по материнской линии. И так уж говорят, что мы обошлись с ними жестоко. Вот я и думаю, что нам лучше быть поосторожнее и подождать, пока чаша переполнится.
Настоятель открыл было рот, чтобы ответить, но их разговор был неожиданно прерван: снизу, от келий, донесся какой-то шум и громкие голоса монахов; со всех сторон аркады слышались взволнованные выкрики. При таком вопиющем нарушении приличий и порядка их послушными овцами аббат и ризничий застыли, изумленно уставившись друг на друга, как вдруг на лестнице раздались торопливые шаги и один из монахов с побелевшим от ужаса лицом распахнул дверь и ввалился в комнату.
– Отец настоятель! – закричал он. – Горе нам, горе! Умер брат Джон! И святой помощник приора тоже умер! А на стоакровом поле гуляет дьявол!
Глава III
Соловый конь из Круксбери
В те незатейливые времена жизнь изобиловала чудесами и тайнами. Люди жили в страхе и священном трепете, чувствуя близость Неба у себя над головой и Ада под ногами. Рука Божия виделась им во всем: в радуге и в комете, в громе и молнии. Дьявол тоже в открытую неистовствовал по всей земле: в сумерках он прятался под изгородями, по ночам хохотал, вцеплялся в умирающего грешника, набрасывался на некрещеного ребенка и выкручивал руки и ноги эпилептику. Нечистый повсюду крался за своей жертвой и нашептывал ей всякие гадости, зато над нею все время парил и ангел-хранитель, указуя ей стезю спасения. И какие могли быть сомненья, если во все это веровали и Папа, и священник, и сам король и нигде во всем мире еще не прозвучало ни единого вопроса?
Каждая прочитанная книга, увиденная картина, сказка, услышанная от матери или няньки, – все учили одному и тому же. А если кому случалось отправиться в путешествие по белу свету, его вера укреплялась еще более, потому что, куда бы ни заносила его судьба, он видел бесконечные гробницы с прахом святых, и каждая была окружена ореолом легенд о множестве чудес, доказательством которых служили кучи костей да серебряные сердца, выкованные по обету. Каждый поворот судьбы показывал человеку, как тонка завеса, отделяющая его от обитателей невидимого мира, и как легко ее порвать.
Поэтому ошеломляющее сообщение перепуганного монаха было воспринято слушателями как нечто ужасное, но отнюдь не невозможное. Лицо аббата на миг побледнело, но он тут же вытащил из стола распятие и храбро вскочил на ноги.
– Веди меня к ним! – воскликнул он. – Покажи мне нечистого, который осмелился поднять руку на братию в святом монастыре! Сбегай вниз к капеллану, брат, и попроси его принести с собой все, что нужно для заклинания дьявола, – и священный ларец с мощами, и кости святого Иакова из-под алтаря! Они помогут нашим смиренным кающимся сердцам повергнуть силы тьмы.
Однако у ризничего был более скептический склад ума. Он схватил монаха за руку и сжал ее так, что у того потом несколько дней не сходило пять синяков.
– Разве так входят в покои настоятеля? Почему ты не постучался, не поклонился, не сказал Pax vobiscum[6]? – сурово спросил он. – Ты же всегда был кротчайшим из послушников, смиренно набирался благочестивой мудрости, усердно пел псалмы, соблюдал себя в строгости. Соберись с мыслями и отвечай на мои вопросы. В каком образе явился нечистый и как он столь ужасно поразил наших братьев? Ты видел его сам, своими глазами, или только повторяешь, что слышал? Да говори же, не то я немедленно поставлю тебя на покаяние.
От такой угрозы перепуганный монах, казалось, поуспокоился, однако побелевшие губы, затравленный взгляд и тяжелое дыхание выдавали его внутренний ужас.
– Если позволите, святой отец, и вы, досточтимый ризничий, дело было так. Сегодня с шести часов помощник приора Иаков, брат Джон и я резали в Хэнкли папоротник для коровников. Потом мы пошли домой стоакровым полем, и святой помощник приора стал рассказывать одну историю из жизни святого Григория, как вдруг раздался шум, словно налетел ливень, нечистый перескочил через стену, что огораживает заливной луг, и как вихрь бросился на нас. Он повалил брата Джона на землю и затоптал его в грязь. Потом схватил зубами доброго помощника приора и стал бегать кругами по полю, тряся его, словно узел тряпья.
Я совсем остолбенел и только твердил про себя одно «Верую» и три «Богородица, Дево», но тут дьявол бросил помощника приора и кинулся ко мне. Святой Бернард помог мне перелезть через стену, но дьявол успел вцепиться зубами мне в ногу и оторвать сзади весь подол рясы.