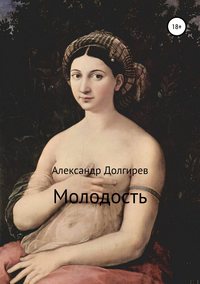полная версия
полная версияСмертью храбрых
– Да нет, обыкновенный пациент.
– Хорошо. А вам вообще довелось осматривать раненых из второй роты одиннадцатого ноября?
– Да, во второй половине дня. Человек двадцать пять, включая капитана Мишо.
– Он был ранен?!
Коммандан постарался говорить спокойно, но полностью скрыть удивление ему не удалось. Огюстен больше двух часов общался с капитаном, но так и не смог понять, что тот был ранен. Доктор, казалось, не обратил внимание на неожиданную эмоциональность Лануа.
– Несерьезно. Правая рука была оцарапана пулей выше локтя – опять повезло. Я наложил повязку, а после этого его отконвоировали на гауптвахту.
– А какого характера ранения были у остальных?
– Обычные. Осколочные, пулевые, штыковые, была пара раздроблений, много разрывов от колючей проволоки, один ожог. Почти все легкие или средние – тяжелые до меня не добрались…
– А в течение ночи вы знали, что вторая рота ведет бой?
– Так все время кто-то ведет бой, господин коммандан. Даже если мне об этом и сказали, особого внимания я этому не уделил. Последние раненые оттуда были доставлены вечером с полковником – он посещал позиции роты. Когда полковник Борель уезжал туда, я отправил с ним бинты, спирт и несколько шприцов с морфином для оказания помощи на месте.
– То есть, ночью полковник Борель не сообщал вам о том, что во второй роте много раненых?
– Нет. Признаться, с половины третьего и до шести меня вообще никто не беспокоил, и я смог поспать.
«Почему же Борель не организовал хотя бы вывоз раненых? Из-за оторванности позиции?» – вопросов к полковнику становилось все больше, и Огюстен понимал, что получить на них ответы будет нелегко.
– А что произошло в шесть?
– В полк пришла новость о Победе.
«То есть, в шесть, когда к Мишо должен был отправляться очередной курьер, в полку знали о подписании перемирия…»
– Вы сказали, что осмотрели человек двадцать из второй роты, но у вас никто из них не лежит, их отправили в тыл?
– Не всех. Большей части я оказал помощь и отправил в расположение роты, а восьмерых, да, отправили в Реймс.
Огюстен провел нехитрые вычисления: получалось, что сейчас в роте оставалось около тридцати человек. Лануа встал, удивившись той легкости, с которой ему это удалось, и задал последний вопрос:
– И все же, господин Бодлер, вы бы осудили капитана за его поступок?
Доктор прошелся полотенцем по своей лысеющей голове и лицу, стирая несуществующий пот. Огюстен, глядя на этот жест и на всю фигуру Бодлера, подумал: «А ведь он держится из последних сил, смертельно устал и почти раздавлен». Лануа очень захотелось, чтобы доктора, наконец, отпустили домой, и он мог вернуться к своей частной практике. Бодлер же начал говорить:
– Я никогда бы не осудил человека за то, что он отказывается убивать других людей, но я понимаю полковника Бореля – солдат должен выполнять приказ, даже если не согласен с этим приказом. Здесь нет правых и неправых, господин коммандан – здесь неправы все, здесь все неправильно. То, что мы вообще здесь находимся, это уже ошибка. Поэтому я счастлив тем обстоятельством, что не мне решать судьбу капитана Мишо. Если суд оправдает его, это будет гуманно, если осудит к расстрелу, это будет обоснованно. Я ответил на ваш вопрос, господин коммандан?
– Вполне. Всего доброго, господин Бодлер.
– До свидания, господин коммандан. Вас ждать сегодня для укола?
– Надеюсь, что нет.
***
«Счастлив он, а мне добрый доктор, что прикажет делать?!» – Огюстен пытался смирить свой гнев, истинной причиной которого, была зависть. Лануа отчего-то вспомнились слова матери о врачах. Она тогда уже болела и после того, как доктор в очередной свой визит снова вышел из ее комнаты с печальным лицом, сказала пятнадцатилетнему Огюстену: «Тяжело быть врачом, сынок. Тяжело смотреть на человека и видеть от чего он умрет. Вот, доктор Роге смотрел на меня сейчас и прекрасно видел, от чего я умру, впрочем, тут не нужно быть доктором…»
В глубине души коммандан прекрасно понимал, что доктор ни в чем не виноват. Более того, Бодлер прав: из этой истории вообще нет справедливого выхода – все ситуация сама по себе в корне несправедлива, а дать правильный ответ на неправильный вопрос нельзя. Поэтому доктор предпочел не отвечать вовсе. Только Лануа не мог позволить себе такой роскоши.
Так или иначе, укол вернул коммандана к жизни и боль на некоторое время оставила его в покое. Когда он вышел из госпиталя, то увидел, что Безю и, судя по всему, приставленный Борелем присматривать за Лануа, адъютант Эстеве азартно режутся в невесть откуда добытое домино, используя в качестве игрового поля водительское сидение Рено. Глядя на этих двоих, Огюстен понял, что если бы не шевроны, он не за что не смог бы сказать, кто из них старше по званию. Коммандан подошел к игрокам и встал за плечом Эстеве, оценивая игровую ситуацию. Партия заканчивалась и заканчивалась совершенно не в пользу адъютанта. Он уже третий ход подряд брал костяшку из банка, но все никак не мог вытащить нужную. Наконец, Эстеве это удалось, но следующим ходом сержант закончил партию.
– Я все!
Безю широко улыбнулся и, похоже, только теперь заметил коммандана. Он тут же выпрямился и сделал глазами знак Эстеве. Адъютант повернулся и опешил, увидев прямо перед собой коммандана. Секунды три он осознавал ситуацию, а после этого тоже встал смирно. Огюстен едва не рассмеялся в голос над всей ситуацией и, в особенности, над выражением лица Эстеве, когда тот его увидел.
– Вольно. Безю, у меня для вас будет поручение. Так как нам предстоит остаться здесь на пару дней, я напишу полковнику Батистини письмо и отправлю вас доставить его в Аррас. Возьмите оттуда с собой необходимые вещи и возвращайтесь. В принципе можете заночевать там, но завтра с раннего утра вы мне будете нужны, так что рассчитывайте. Приказ ясен?
– Так точно, господин коммандан.
– Очень хорошо. Адъютант Эстеве, полковник Борель обещал выделить нам места для ночлега, сопроводите нас туда.
– Так точно, господин коммандан.
Через полчаса сержант с письмом уехал в Аррас, а Огюстен, окутанный клубами табачного дыма, лениво потягивал кисловатое вино и не менее лениво курил трубку. Комната, выделенная Лануа полковником, находилась в доме, расположенном напротив ратуши-штаба, и до Войны, скорее всего, служила номером гостиницы. Помещение было немного неуютным, но достаточно чистым и, что самое главное в ноябре, теплым. Безю поселили в соседнем номере.
Мысли коммандана, впрочем, были весьма далеки от этой комнаты. В письме полковнику Батистини Лануа в общем и целом передал то, что увидел и узнал за этот день. Его рассказ был правдивым и исчерпывающим кроме одного момента: Огюстен не стал сообщать, что капитан Мишо полностью во всем сознался. Вместо этого, Лануа написал, что не смог получить от капитана никаких показаний касательно утра одиннадцатого ноября. Таким образом, коммандан пытался выкроить немного времени. Его начальник – полковник Батистини – был хорошим офицером и работал на совесть, но узнай он, что Мишо согласен с выдвинутым обвинением, и приговор будет вынесен без промедления.
Но даже не ложью начальнику были заняты мысли Огюстена – коммандан думал о том, зачем собственно он выкроил себе это время. Доказать невиновность Мишо не представлялось возможным, потому что он был виновен и сам об этом говорил. Имелись неплохие шансы защитить капитана от очень громкого, но достаточно голословного обвинения в трусости. Полковник Борель на момент составления своего рапорта явно дал волю эмоциям и, скорее всего, сам понимал, что Мишо совершенно точно не трус. Хотя, разумеется, полковник и на этом пункте обвинения будет настаивать до последнего. Несмотря на это, Лануа считал, что шансы снять с капитана обвинение в трусости все же были достаточно высоки.
Не имелось у коммандана окончательной ясности и с обвинением в оскорблении старшего по званию – Мишо не смог точно указать, что именно было им сказано, поэтому тут все зависело от свидетельских показаний… Огюстен прервал свои размышления и устало растянулся на кровати прямо в мундире и сапогах.
День пролетел быстро, но не безболезненно и стрелки часов показывали пять часов вечера. «Так или иначе, нужно опросить солдат его роты, в первую очередь лейтенанта Феро, а также посетить место боя. Но сегодня уже поздно, да и Безю нет…» – мысли Лануа прервал аккуратный стук в дверь. Коммандан с некоторым трудом сел, оправил мундир и разрешил войти. Адъютант Эстеве передавал ему приглашение полковника Бореля отужинать в его компании. Огюстен не видел причин отказываться, кроме того, у него были к полковнику вопросы, которые лучше задавать в сравнительно непринужденной обстановке.
***
Ужин полковник Борель сегодня, а возможно и обыкновенно, принимал в своем рабочем кабинете в штабе полка. Леса, поля, реки и населенные пункты были убраны в стол, равно, как и траншеи, окопы, километры колючей проволоки, рытвины и воронки от взрывов, а также несколько сотен солдат и офицеров. Вместо них на столе, накрытом накрахмаленной белоснежной скатертью, нашлось место запеченной курице, доброй голове сыра (насколько мог судить Огюстен, грюйера, но не швейцарского, а из Конте или Савойи), хлебу и двум бутылям вина. Блюда с едой соседствовали с двумя пустыми тарелками и приборами на двух человек.
Лануа не мог не отметить, что пусть ужин полковника и превосходил изрядно своим богатством солдатский паек, разница все же не была столь неприлична, как на многих иных офицерских столах, которые коммандану приходилось видеть преимущественно в тылу. «Чем дальше от бошей, тем ближе к перепелам» – как однажды грустно пошутил полковник Батистини, которому по долгу службы приходилось бывать на подобных ужинах еще чаще, чем Огюстену.
Сам хозяин кабинета, впрочем, был занят вовсе не ужином – он с упоением и, даже, каким-то маниакальным остервенением выбивал и чистил свою трубку. Хотя просто трубкой пенковое великолепие с резной чашей, которое держал в руках Борель, мог бы назвать только человек с полным отсутствием чувства прекрасного. Мастерство резчика превратило чашу в голову бородатого мужчины восточной внешности, из тюрбана которого должен был подниматься дым.
– Вы вызывали меня, господин полковник?
Полковник отвлекся от своего занятия и поднял взгляд на стоявшего в дверях Огюстена:
– А, Лануа! Я рад, что вы решили отужинать со мной.
Голос Бореля явно выдавал приподнятое настроение своего обладателя.
– Спасибо за приглашение, господин полковник.
– Глупости, Лануа… Садитесь, не стойте в дверях. Дайте мне еще минут пять, и я к вам присоединюсь. Можете пока налить себе вино.
Полковник вернулся к своей трубке, предоставив коммандана самому себе. Огюстен невольно улыбнулся, увидев, сколько сажи и пепла остается на белоснежной скатерти от действий Бореля. Он не стал отказываться от предложения и налил себе вина в основательный толстостенный бокал. Шли минуты. Борель все никак не мог закончить, протирая теперь тряпочкой лицо «турка» – как отчего-то окрестил чашу трубки полковника Огюстен. Внезапно Борель пристально посмотрел на своего гостя:
– А вы курите трубку, Лануа?
– Да, господин полковник.
– Позволите посмотреть?
Лануа успел оценить трепет, с которым Борель относился к своей курительной принадлежности, и понять, что полковник, очевидно, являлся страстным ценителем. Поэтому он не сильно удивился просьбе и передал свою простую бриаровую трубку в руки Бореля.
Трубка коммандана была лишена богатого оформления, но, тем не менее, в его глазах превосходила красотой все трубки во всех уголках мира – из декоративных элементов на ней была лишь маленькая гравировка по правой стороне, содержавшая в себе надпись: «Огюстену от Софи. Спасибо за пять восхитительных лет».
Полковник внимательно вглядывался в трубку, вертел ее в руках и, как показалось Лануа, все пытался найти какой-то секрет или вникнуть в тайну этого простого, в общем, приспособления.
– Я сегодня был по делам полка в Аррасе и заодно справился о ваших полномочиях у полковника Батистини. Ваши права полностью подтвердились, так что прошу простить мою утреннюю недоверчивость.
Борель заговорил совершенно неожиданно, даже не отвлекшись от разглядывания трубки. «Въедливый сукин сын!» – Огюстен не ожидал, что полковник действительно решит растрясти Жандармерию. Лануа уже собирался сказать, что никаких обид быть не может, но выяснилось, что Борель не закончил:
– Кроме того, я расспросил о вас. Мы с Полем Батистини пересекались еще в Дагомее и за ним остался небольшой должок, поэтому он удовлетворил мое любопытство.
– Выяснили что-нибудь интересное, господин полковник?
– Выяснил кое что неожиданное… Почему вы не носите награды, Лануа? Простите, что так напрямую, но с настоящими офицерами я предпочитаю общаться без церемоний.
«Ну, без церемоний, значит без церемоний».
– Это помогает мне в работе. Когда человек надевает награды, вся его военная биография становиться открытой книгой – для этого награды и были созданы. Но мне удобно, напротив, чтобы о моей военной биографии ничего не говорило. Солдаты и офицеры, которым я по долгу службы вынужден задавать неприятные вопросы, обычно видят во мне обыкновенную штабную крысу. Это допущение приводит их к самой тяжелой ошибке, которую может допустить человек пытающийся солгать – к недооценке оппонента.
– А как же ваше ранение?
– Ну, ногу я не надеть не могу, господин полковник.
Коммандан подкрепил свои слова улыбкой. Обмен ударами состоялся и дал бойцам пищу для размышлений.
– Вы – страшный человек, Лануа.
– Это Война, господин полковник.
Слова Огюстена прозвучали чуть резче, чем ему хотелось бы, и Борель эту резкость уловил. Полковник отвлекся от трубки и внимательно посмотрел на Лануа, но не нашел на его лице никаких признаков раздражения. Несмотря на это, он решил переменить тему:
– Вы довольны комнатами, которые мы вам выделили?
– Да, большое спасибо.
– Хорошо. Сами видите – у нас тут не Версаль, но гостей мы принимать умеем. Вы уже посещали господина Бодлера?
«Похоже, даже он не видит в докторе военного».
– Да, посещал. Доктор заверил меня, что лекарств хватит на всех больных… Кстати, правда, что у вас проблемы с гробами?
– Были. Сейчас-то уже всех захоронили, но некоторых пришлось класть в самоделки из оконных рам, да в мешки. Но откуда вам известно об этих проблемах?
– Видел, как хоронили пленного погибшего при попытке к бегству, когда подъезжал.
Неожиданно для Огюстена лицо Бореля помрачнело, когда был упомянут юный немец.
– Да, мне докладывали об этом. Глупый мальчишка. Куда он вылез? Через месяц, от силы два, был бы дома…
«А ведь он не просто солдафон. Тут персонаж потоньше» – полковник открывался перед Лануа с новой стороны. Борель между тем протянул Огюстену трубку и нарушил установившееся, было, молчание:
– Хорошая. Ничего лишнего. Я бы порекомендовал вам чуть тщательней ее прочищать, а то скоро слой сажи на стенках чубука закупорит его, и вы замучаетесь пробивать эту пробку. Как я понял, эта вещь очень важна для вас так, что не пренебрегайте чисткой.
И еще: я понимаю, что сейчас вести речь о разнообразии сортов табака не приходится, но скоро с этим станет легче – постарайтесь курить такой табак, который горит медленнее. У вас небольшая чаша и быстропрогорающий табак мало того, что прилично горчит, так еще и сильно обжигает внутренние стенки чаши, а это очень нехорошо, так как в итоге будет горчить любой табак, и трубка, опять же, придет в негодность, особенно если не счищать нагар каждый день бритвой. Впрочем, давайте ужинать, а то за этими разговорами еда совсем остыла.
Лануа кивнул, принимая совет насчет трубки, прочитал про себя быструю молитву и приступил к трапезе. За день Огюстен прилично проголодался, даже несмотря на дневной перекус с капитаном Мишо, поэтому за ужином уделил внимание собственно еде, а не разговорам. Аналогично рассудил и Борель, потому что, когда курица была почти съедена, а первая бутылка вина допита именно он вернул Лануа к работе:
– Вы уже общались с капитаном Мишо?
«А то Эстеве тебе не доложил…» – Огюстен почти не сомневался, что адъютант описал полковнику прошедший день во всех подробностях.
– Да, мы с ним поговорили.
– И что скажете?
– Скажу, что он не трус.
Вопреки ожиданиям Лануа полковник не стал с ним спорить:
– Я знаю.
– И, тем не менее, обвиняете его в трусости?
– Да, обвиняю. Мишо не трус, но в то утро он струсил.
– Когда в письме вам взял всю вину на себя?
– Нет, Лануа, когда решил оправдать свое малодушие заботой о подчиненных.
Полковник начал набивать ту самую пенковую трубку, которую до ужина с такой тщательностью чистил.
– Кстати, господин полковник, почему вы скрыли от меня то обстоятельство, что капитан Мишо написал вам утром одиннадцатого ноября?
– Я не скрывал…
Борель прервал себя, раскуривая трубку.
– Я не скрывал, Лануа. Я просто забыл. Думайте, что хотите, но с утра у меня было много дел, поэтому общаясь с вами, я был немного рассеян. Впрочем, записка у меня в столе – я могу вам ее отдать.
Огюстен вспомнил утренний разговор, а точнее время, потраченное в бесплодных препирательствах. По его прикидкам получалось минут десять. Вслух же коммандан произнес:
– Да, я хотел бы подшить ее к делу, господин полковник.
– Там, в общем-то, ничего особенного нет. Мишо описывает положение дел в роте, пишет, что отказывается выполнять приказ потому, что считает его неразумным и прочее в том же духе.
Борель извлек из ящика стола свернутый вчетверо желтоватый лист бумаги и передал его Огюстену.
– Были еще несколько обстоятельств, о которых вы не упомянули.
– Например?
– Мишо говорит, что приказ наступать вторая рота получила еще вечером десятого ноября. Это правда, господин полковник?
– Да, только я не понимаю, что это меняет?
– Это означает, что к утру силы второй роты были на исходе, она понесла тяжелейшие потери и была не в состоянии выполнить приказ атаковать.
– Кто сказал, что она была не в состоянии? Капитан Мишо?
– А вы знаете, сколько людей оставалось в строю во второй роте к утру одиннадцатого, господин полковник?
– Знаю, Лануа, не сомневайтесь. В строю было сорок три человека, трое из них офицеры. У них не было недостатка в оружии и боеприпасах. Черт, да я даже носки им завез вечером!
Полковник начинал распыляться, но у Лануа было еще много вопросов:
– Я правильно вас понял, господин полковник – вы считаете, что рота могла выполнить ваш приказ, несмотря на то, что в строю оставалось меньше половины личного состава и почти все они были ранены?
– Да, я так считаю! Несмотря на утреннее малодушие Мишо, я точно знаю, что они не отсиживались всю ночь в окопах – они атаковали. Атаковали непрестанно и смогли нанести противнику серьезный урон. Да, их осталось чуть больше сорока, но ведь и бошей осталось совсем немного! Девятый штурм должен был все закончить и не закончил лишь из-за того, что капитан Мишо струсил. Еще раз, Лануа: не его люди, на пятерых из которых я уже подписал запрос о поощрении и награждении, а именно он!
– Поэтому вы и просите для него расстрел…
В словах Огюстена не было и тени вопросительной интонации, но полковник воспринял их как вопрос:
– Да, поэтому, несмотря на то, что приказ не выполнила вся рота, расстрел я требую… Требую, Лануа! только для него! Нужно отдать Мишо должное – он взял всю вину на себя и действительно спас своих людей, именно поэтому я не требую в рапорте лишить его офицерского звания и всех наград.
– А вы считаете, что он запятнал честь офицера?
– Черт возьми, Лануа, да, считаю! С каких пор неподчинение прямому приказу стало согласоваться с понятием офицерской чести?!
В голову Огюстена пришла идея, которая, несмотря на свою простоту, тем не менее, вполне могла сработать:
– Тогда почему обязательно расстрел, господин полковник? Я полностью согласен с вами в том смысле, что Мишо больше не должен быть офицером, так разжалуйте его!
Если Борель согласится, военная пенсия Мишо сократиться с офицерской до рядовой, но он будет жить, а учитывая, что руки и ноги у капитана на месте, работу он найти сможет. «Возможно, Мишо лишат медалей, но опять же Медаль за ранение останется при нем – это тоже пенсия…» – все расчеты Лануа рассыпались прахом, когда полковник заговорил:
– Вы знаете, что такое децимация, Лануа?
– Децима – это десять по латыни, а что означает сам термин, не могу сказать.
– Уже хорошо, коммандан, что вы умеете считать на латыни хотя бы до десяти. Децимация – это наказание, которое применялось в Древнем Риме по отношению к воинскому подразделению, которое потеряло знамя, бежало с поля боя, не выполнило приказ.
Полковник сделал нажим на последние два слова.
– Всех выживших в бою солдат этого подразделения делили на десятки независимо от выслуги лет и звания, а после этого заставляли тянуть жребий и одного из десятка казнили. Римская армия была практически непобедима на протяжении веков и выделялась строжайшей дисциплиной.
«Это я – страшный человек?!»
– Но мы ведь не в Древнем Риме, господин полковник!
– Конечно, мы не в Древнем Риме, коммандан! Рим не позволил бы германским варварам с востока смять себя, не позволил бы им четыре года сидеть на своей земле, не начал бы Войну разукрашенным как попугай в святой уверенности, что все закончится через пару месяцев!..
– В итоге он все это себе позволил и пал под натиском тех самых германских варваров, господин полковник.
– В том числе потому, что отказался от практики децимации, утратил свой боевой дух, а вместе с ним непобедимость! Хотя, в одном вы правы, Лануа – мы не в Древнем Риме. Поэтому я и не призываю расстрелять каждого десятого солдата второй роты, но того кто виноват в разложении дисциплины наказать нужно и наказать нужно смертью.
– Даже не смотря на то, что Война закончена?!
Огюстен не уследил за своим самообладанием и едва не сорвался на крик, а вот полковник, казалось, успокоился и говорил ровно:
– А Война не закончена, коммандан. Подписано перемирие – перемирие, а не мир. Солдаты могут себе позволить иллюзию, что мы уже победили, а вот для офицеров это непозволительно. Кроме того, Лануа, мы так давно воюем с бошами, что между нами вообще не может быть мира, лишь перемирие. Неделя, месяц, год, десятилетия или века, но рано или поздно мы снова с ними столкнемся, и армия должна быть к этому готова.
– Поэтому здесь и сейчас вы хотите расстрелять человека?
– Вы не поняли меня, Лануа.
– Да, господин полковник, не понял.
***
– Патруль, стой! Привал пять минут. Всем собраться рядом со мной.
Лейтенант Альберт Майер остановил своего коня и спрыгнул на землю. Он потрепал Аякса по морде – ему нравился этот спокойный гнедой жеребец. Аякс прянул ушами и фыркнул.
Майер оглянулся на дорогу в том направлении, откуда ехал их отряд. Мюльхаузен скрылся от их взоров десять минут назад и, следуя совету ротмистра Крипке, лейтенант только теперь собирался сообщить солдатам о настоящем задании. Майер развернул карту на седле Аякса и принялся ждать пока шесть бойцов, которых он отобрал еще вчера вечером, подойдут.
На лицах егерей было недоуменное выражение – они вышли в патруль лишь чуть меньше часа назад, и для привала было еще рано. Майер сделал глоток воды, чтобы прочистить горло и начал говорить:
– Господа, в целях сохранения секретности я вчера ввел вас в заблуждение относительно истинной цели нашего задания…
Лейтенант сделал паузу подобную той, которую в разговоре с самим Майером брал ротмистр Крипке.
– …Нашей настоящей задачей является следование по этой дороге вплоть до французской границы и проникновение через нее с целью разведки.
Майер, как и ротмистр, провел по карте путь из Мюльхаузена до французской границы, повторяя изгибы тракта.
– Это что война, что ли будет?..
– Помолчи, Заммер. Все разговоры и вопросы потом. Сейчас слушайте меня очень внимательно: пересечь границу нужно максимально скрытно, поэтому вот здесь мы сойдем с тракта и выйдем на него снова уже на французской стороне. На той стороне мы будем двигаться в юго-западном направлении, пока не встретим крупные силы противника. Когда встретим их, мы должны не ввязываясь в бой повернуть назад и вернуться на нашу сторону. Это ясно?
Майер дождался не слишком уверенного согласия и продолжил:
– Далее: контактов с местным населением нужно избегать или, по крайней мере, свести их к минимуму насколько это возможно. В крупные деревни не заезжать, крестьянских девок не клеить – это для тебя сказано, Шанцковский. Не отставать и не разделяться – присматривайте друг за другом. Встреченных нами одиночных солдат противника разрешено устранить, но в затяжные перестрелки не вступать. Это ясно?