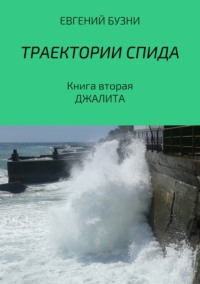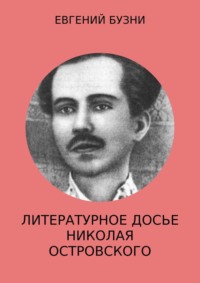полная версия
полная версияПером по шапкам. Книга вторая. Жизнь без политики
ж. «Лицейское и гимназическое образование», № 4, 2010
«Героизм с точки зрения интернета»
О русском языке и демократии
Девиз: Пусть будет язык красивым!
Странно, в самом деле, что сотни слов русского языка включают в свой состав букву «ё», без которой фактически не может обойтись ни одна речь оратора, и тем не менее, по совершенно непонятным причинам она как бы исключена из русского алфавита, в большинстве печатных изданий её заменили буквой «е». Любопытно узнать, почему так? Краски жалко на две лишние точки над «ё»? Так давайте ради экономии уберём и букву «й», заменив её в целях той же экономии на «и». Можно пойти дальше, убрав из нашего алфавита твёрдый знак, сохранив только мягкий, ликвидировать «щ», позволив на письме шипеть только букве «ш».
Смотрите, сколько лишних крючков уберём и насколько облегчится труд машинисток. Но именно в связи с прекращением употребления на письме буквы «ё», огромное количество людей сегодня, включая дикторов радио и телевидения, многие слова с буквой «ё», именно фонетически произносят ошибочно с буквой «е» по неграмотности. Так откуда же взять им эту грамотность, если повсюду пишут только букву «е»?
К счастью «Литературная газета», а вслед за ней и некоторые другие издания, в частности и издания Московского союза писателей России, стали выходить с использованием буквы «ё» в словах, где ей положено быть.
Но, что делать людям, в чьих фамилиях присутствует злополучная буква «ё», а чиновники паспортных столов отказывают им, проставляя вместо неё «е», фактически меняя фамилию, что является, как минимум, должностным преступлением?
Если ваша фамилия Шмелёв, и вы получили почтовый перевод на почтовый отдел «До востребования». А там вам перевод не выдают, поскольку вы предъявляете паспорт, выписанный на имя Шмелева, то есть с буквой «е» вместо «ё», и работники почты будут совершенно правы, поскольку «Шмелев» и «Шмелёв» с точки зрения закона разные фамилии.
Сегодня мы можем ежедневно слышать ошибки в произнесении фамилий известных личностей, географических названий и других имён собственных, включающих в себя звук «ё», но произносимых «е» по незнанию. Можно ли, к примеру, ругать школьника, увлёкшегося поэзией великого шотландского Роберта Бёрнса, за то, что он называет его Бернсом? К сожалению, нет, когда в учебнике он представлен с буквой «е».
Думается, что Институт русского языка и литературы, а так же Министерство народного образования должны не только сказать своё решительное слово, но и принять действенные меры по наведению порядка в русском языке и не только с буквой «ё».
Интересно, что бы они сказали, если бы к ним в квартиру пришёл гость и неожиданно высморкался, вытирая при этом нос оконной занавеской? Помните старинную студенческую песню со словами: «Не сморкайтесь, дамы, в занавески. Это неприлично, вам говорят»? Да, когда-то, возможно, это было бы нормальным явлением, но общество развивалось, культура его менялась, и очищать нос при помощи занавески стало неприличным для общества воспитанных людей, как неприлично плевать на пол или справлять естественные надобности в присутствии окружающих, хотя в некоторых странах и это допустимо.
Так вот для меня использование матерных выражений и другой ненормативной лексики в литературе или средствах массовой информации – это то же самое, что плевать на пол или вытирать нос занавеской. Мне кажется, что авторы, допускающие в своих произведениях крепкое словцо, от которого у иного воспитанного человека кончики ушей холодеют, а щёки покрываются румянцем стыда, делают это не столько от того что хотят отразить тем самым правду жизни, сколько от скудости своего таланта писателя. А в нынешние времена вседозволенности, когда никто практически не редактирует и не корректирует многочисленные издания за счёт автора, сотни, если не тысячи горе писателей ринулись вставлять, где попало, ненормативную лексику ради привлечения к себе всеобщего внимания, чтобы сказать, мол, вот я какой смелый и демократичный, не боюсь выругаться при всех, поскольку мои герои ведут себя так на самом деле.
Конечно, в обыденной жизни люди самого разного ранга и положения, необразованные и с вполне приличным образованием, в своей разговорной речи используют ненормативную лексику. Никуда от этого не денешься. Но ведь и естественную нужду свою мы порой справляем у дерева, если находимся в лесу, а не бежим за сотню километров в приличный туалет. Однако и в лесу мы стараемся делать это не на глазах у своих спутников, тем более другого пола. Так же и с нецензурными выражениями. Говорят их люди, произносят, но мастерство писателя в том и заключается, чтобы пусть самую грязную брань в самой тяжёлой ситуации, когда герой не в состоянии обойтись без крепких слов или просто других не знает, описать эту самую речь словами приличными для воспитанного читателя, да так, чтобы с одной стороны дать полное представление описываемой картины, не оскорбляя при этом чувств читателя, а с другой стороны, позволяя тем самым невоспитанному человеку понять, как можно было бы иначе, приличными для общества словами выразить то же самое состояние возмущения.
Ведь есть же у нас прекрасные примеры великих русских писателей. Фёдор Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» описывает подробнейшим образом жизнь каторжан. Лев Толстой даёт картины из тюремной жизни в романе «Воскресенье». Оба великих знатока русского языка ни разу не использовали в этих своих произведениях ненормативную лексику, но образы описываемых ими героев от этого не стали менее яркими, и читатель не думает, что речь заключённых отличалась высокой культурой.
Безусловно, так писать нелегко, а кто сказал, что труд писателя простое дело? На то он и писатель, что бы самому учиться и учить своими произведениями читателя разговаривать красивым русским языком и не допускать, чтобы его герои на глазах у всех справляли нужду на страницах книги матерным языком. А если автор сомневается по тому или иному слову, то есть можно ли его употребить без оскорбления слуха, так ведь на то и существуют у нас словари нормативной лексики, чтобы знать, что и как употребляется в русском языке.
Одна из моих оппонентов, услышав такой довод, тут же заметила, что редактор не должен проверять каждое слово в словарях. Конечно, не должен. Редактор обязан быть достаточно грамотным, чтобы знать, что допустимо, а чего следует избегать. Естественно, русский язык живой и подвержен изменениям. Он развивается, включая в себя и новые тенденции, и новые заимствования, и новые смысловые значения. С этим никто не спорит. Однако всё новое должно быть лучше старого, а не хуже.
Известный в своё время литовский поэт Эдуардас Межелайтис справедливо писал когда-то, что не газета должна опускаться до уровня читателя, а читатель должен подниматься до уровня газеты. То же можно сказать в целом о литературе. А что происходит в наши дни?
Сплошь и рядом мы слышим неграмотное употребление русских слов, которое прежде было допустимо лишь в среде недостаточно образованных людей. Вот я только что употребил слова «достаточно» и «недостаточно». Казалось бы, простые понятные слова. Но как часто сегодня мы слышим абсолютно неверное их употребление. Слово «достаточно» означает, что мы имеем чего-то столько, сколько нужно. Так разве можно говорить в таком случае, например, что тот или иной человек «достаточно плохой» или у женщины «достаточно некрасивое» лицо? Лицо может быть несколько некрасивым, немного некрасивым, очень некрасивым, некрасивым на чей-то взгляд, но не «достаточно некрасивым». Только если мы гримируем женщину под бабу ягу и хотим сделать её уродиной, мы можем сказать: «Вот теперь она достаточно некрасива, чтобы её не любили». Но сказать, что женщина достаточно некрасива, подразумевая, что она недостаточно красива, нельзя. Однако именно так часто говорят даже дикторы радио и телевидения. Политики вслед за ними могут назвать ситуацию в стране «достаточно плохой». Плохой ситуация может быть достаточной в глазах наших врагов, а для нас она слишком плохая или относительно плохая, но не «достаточно».
Этому следует учить со школьной скамьи и ежедневно средствами массовой информации. Тогда мы будем лучше понимать друг друга. Почему я сказал «средствами массовой информации», а не «литературой»? Да потому, что читать сегодня стали меньше, а всё больше смотрят телевизор, слушают радио и не вылезают из интернета, в котором царит полная анархия в языке. Потому и роль воспитания речи у них возросла. Потому и требования к ним должны предъявляться повышенные.
В прежние годы словарь работников радио и телевидения служил эталоном правильного произношения. Сегодня, к сожалению, это далеко не так. Сегодня, к сожалению, даже специалисты языковеды весьма слабо выражают беспокойство по поводу происходящих негативных процессов в современном русском языке. Их больше волнует вопрос свободы творчества, демократии в литературном процессе. Я тоже за демократию, но не считаю возможным путать её с анархией и вседозволенностью. Массовое бескультурье, проникающее в литературу, накатывает штормовой волной на подрастающее поколение, которое не всегда способно отличить доброе зерно от плевел.
Писатели и поэты обязаны, по-моему, способствовать взращиванию добрых всходов. И если у них это не получается, если они приверженцы анархии в литературе, то, извините, но на таких необходима нравственная и профессиональная цензура, способная сохранить чистым и красивым русский язык, справедливо называвшимся великим и могучим, именно благодаря его разнообразию, способному выразить всё, без употребления ненормативной лексики и безграмотных выражений. Мы не имеем права позволить погибнуть красоте русской речи.
На днях я прочитал в одном стихотворении поэта поразившие меня строки «Взгляд синих глаз перламутрово-пегий». Это до какой же степени должна дойти демократия в литературе, чтобы допустить, во-первых, «взгляд», являющийся процессом, наделять какой-либо окраской, а во-вторых, сочетать синие глаза с перламутровой пегостью? Абракадабра, но ведь пишут же такое поэты, и их ещё печатают иногда. Нет, я решительно против такой демократии даже за личный счёт авторов.
«Русский переплёт», «Слово о русском слове», 28.04.2010
Не трогайте русский язык без перчаток, если руки ваши не чисты
Кто только ни берётся за реформирование русского языка, чего только ни предлагают с ним сделать? И гнут через колено, и мнут и корёжат, и рвут на части, и вставляют спицы в колёса его истории, чтоб остановить, разломать, испоганить, а он всё живёт, великий и могучий, и будет жить вечно, пока жив на земле хоть один настоящий русский человек.
Я бы не стал, может, как говорится, браться за перо в связи с выступлением Михаила Эпштейна по поводу русского языка в телевизионной программе «Культура» 14 октября, если бы не отдельные восторженные отзывы на потуги американо-русского филолога изменить русский язык созданием нового словаря. Вот, например одно из высказываний:
«Оказывается, что свободное написание символов в инете или "коверкание" слов, которое так раздражает многие "глаза" не есть плохо: Это есть словотворчество. А вот "латинизация" языка это путь к гибели русского языка.
Очень зацепили меня 2 лекции Михаила Эпштейна на канале "культура". В итоге подписался на рассылку его "Дар слова".
Раньше от корня "добр" и "зло" в употреблении было до 200 слов на каждый корень. А сейчас около 40. Есть слово "злодей", а "добродей" умерло. Есть "злодейство", а "добродейство" тоже умерло …
буду стараться регулярно читать "Дар слова" и внедрять в обиход новые слова»)
О каких же новых словах идёт речь?
Но сначала несколько обычных слов о самом Эпштейне. Титулов у него немало. Окончил филологический факультет МГУ, автор многих статей и книг по вопросам литературы, языка, истории и теории советской идеологии и философии, профессор русской литературы университета Эмори (США), член Российского Пен-клуба и Академии российской современной словесности, Лауреат Премии Андрея Белого 1991 года, премии журнала «Звезда» (1999), премии русской эмиграции «Liberty» (2000). По крайней мере, так он представлен в Интернете.
И что же предлагает россиянам в своих лекциях на телеканале и в течение десяти лет внедряющий сетевой проект «Дар слова» этот профессор русской литературы американского университета?
Основная идея его заключается в том, что необходимо ради выживания русского языка позволить его коренным носителям освободиться от оков русской грамматики, которая будто бы не позволяет свободное словотворчество, ограничивая своими ненужными устаревшими правилами.
Но, во-первых, почему русский язык надо спасать? Я согласен, что это жизненно необходимо, но почему и от кого спасать?
На мой взгляд, жителя России и пишущего на русском языке, хотя по специальности я являюсь преподавателем английского языка, русский язык сегодня в опасности по той причине, что ему стали уделять гораздо меньше внимания в наших учебных заведениях, грамотность школьников и студентов снизилась, чему способствует в немалой степени и падение речевой культуры дикторов радио и телевидения, которые в прежние годы были эталоном использования русского языка.
Русский язык в опасности от внедрения в нашу лексику большого числа иноязычных слов, преимущественно английских.
Русскому языку угрожает свободная публикация литературных произведений, многие авторы которых, пользуясь тем, что печатают произведения за свой счёт, позволяют употребление не только неграмотных в литературном отношении слов и словосочетаний, но и заведомо недопустимой ненормативной лексики.
Русский язык может сильно пострадать и от не до конца продуманных или придуманных с неблаговидными целями нововведений в русскую грамматику типа устранения из применения буквы «ё» или изменения правил употребления иноязычных слов типа «кофе».
Наконец, русский язык вместо выживания может прийти к деградации, если его пользователи станут откликаться на увещевания некоторых, с позволения сказать, зарубежных языковедов, свободно его коверкать, придумывая и внедряя в жизнь свои собственные варианты слов.
К счастью, такого никогда не случится, поскольку русский язык, как, впрочем, и все другие языки мира, формируется не по указаниям сверху. Он действительно живой наш язык и ежедневно в нём появляются новые слова, но они рождаются по своим собственным законам, а не по чьим-то рекомендациям.
Например, Эпштейн предлагает в числе сотен изобретенных им слов (беру одно наугад) «люболь». Скажите это слово в разговоре кому-нибудь, и никто не поймёт, о чём речь, пока не услышите объяснение самого изобретателя:
«Это такая любовь, которая вбирает в себя боль, становится неотделимой от боли, а порой любит и лелеет саму эту боль. Боль зависимости от любимого, боль непонимания, невзаимности, несоединимости – всё это может переполнять любовь и делать ее люболью.
Ты все еще любишь его? – Да какая уж тут любовь. Одна люболь осталась».
Это надуманное слово никогда не войдёт в словарный запас русского языка по той простой причине, что само состояние автором надумано. Любовь с болью в сердце бывает и довольно часто, когда понимаешь, что нельзя этого человека любить, а любишь вопреки здравому смыслу. Не случайно в народе говорят: «Любовь зла – полюбишь и козла». Не будешь ведь придумывать по этому поводу новое слово «козлюбовь», которое как раз отразит собой эту мысль?
Нет, русские новые слова образуются совершенно по другому принципу. Они хорошо известны в теории языка. Один из них – окказионализмы, когда, скажем ребёнок говорит «Смотри, дождь налужил». Нет такого слова в русском языке «налужил», но кто-то из родителей упомянул его в своей книге. Оно понятно, кто-то, возможно, употребит его в своей речи в порядке шутки, но в общий обиход это слово не войдёт. Подобные слова часты в разговоре, но их никто специально не придумывает. Они рождаются по ассоциации. Когда человек говорит «На меня напал хохотунчик», это не требует объяснений. Каждому понятно сказанное, хотя такого слова в языке нет. Но когда по аналогии со словом «неуч» Эпштейн предлагает новое слово «нехоть», оно обязательно требует разъяснений, а потому нежизненно и употребляться не будет.
Да, писатели и поэты изобретают новые слова. Они называются в теории литературы индивидуально-стилистическими неологизмами. К примеру, Александр Блок в стихотворении «На островах» вводит новое слово:
Вновь оснежённые колонны.
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюблённой.
И хруст песка и храп коня.
Это же слово впоследствии употребила и Анна Ахматова:
Вот поняла, что не надо слов,
оснежённые ветки легки…
Сети уже разостлал птицелов
на берегу реки.
Красиво, хорошо, тем не менее, это слово остаётся авторским неологизмом и не вошло в русский лексикон.
Можно привести оригинальный пример со словом «Авоська». Оно появилось в книге детского писателя Николая Носова о Незнайке вместе с другим героем «Небоськой». Но в русском языке и раньше бытовали эти слова в пословицах и поговорках. В оной из них говорится «Держался Авоська за Небоську, да оба в яму упали». Однако широкую популярность с совершенно другим смыслом слово обрело благодаря знаменитому артисту Аркадию Райкину, который употребил слово «авоська» в одной из своих интермедий для названия плетёной хозяйственной сетки. В этом значении слово и пошло в народ и выходит из употребления только потому, что сами хозяйственные сетки заменены полиэтиленовыми пакетами.
Поэты авангардисты много работали, создавая новые слова, которые так и остались авторскими неологизмами. Среди них были и знаменитые поэты, как Осип Мандельштам, который писал:
И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель.
То есть упражнения с русским языком делались многими. История давно показала, что русский язык сам находит пути своего развития без чьих-то указаний. То, что ему не подходит, он отторгает. Но это совсем не означает, что мы должны равнодушно смотреть на то, как обращаются с нашим языком, как его пытаются изуродовать, даже пользуясь гуманным лозунгом «помочь выживанию языка».
А,М. Горький писал:
«Мне тоже приходится читать очень много писем рабселькоров, «начинающих» литераторов, учащейся молодёжи, и у меня именно такое впечатление: русская речь искажается, вульгаризируется, её чёткие формы пухнут, насыщаясь местными речениями…».
Мне думается, что сегодня нам надо уделять внимание именно тому, чтобы молодёжь училась красивому русскому языку, обогащая его естественными неологизмами, создаваемые ради удобства общения, а не ради желания прославиться хотя бы тем, что придумал в словарь Эпштейна один-другой десяток новых слов и при этом влепить нецензурность, утверждая тем самым свою полную свободу в языке.
А на эту тему, то есть использование ненормативной лексики в русском языке, вскоре после лекций Эпштейна на канале «Культура» другой телевизионный канал «НТВ» провёл 22 октября передачу «Россия без мата?», явившуюся очередным вмешательством в развитие нашего национального достояния.
Здесь уже выступал не один человек, а целый конгломерат специалистов. Но передачу начали с извинения от имени НТВшников за показ видеоролика такого содержания, что особо чувствительным телезрителям предложили закрыть уши, и затем пошла демонстрация того, как маленькие дети, чуть ли не с трёхлетнего возраста пересыпают свою речь ненормативной лексикой. Звуковой сигнал, забивающий чересчур эмоциональные слова, режущие слух, звучал почти непрерывно. Любопытна реакция сидевших в студии, которые слушали текст без купюр и забивания неприличных слов звуком. Казалось, что все слушали с любопытством. Только прославленный диктор программы «Время» советского телевидения Анна Шатилова, слух которой не привык к непристойностям, кажется, была поражена тем, что это можно было открыто показывать, и не знала, как себя держать. После короткой демонстрации сюжета ведущий передачи Антон Хреков обозначил вопросы для обсуждения собравшимся в студии людям: считающим, что мат – это позор нации, и тем, кто считает, что мат – это неотъемлемая норма сегодняшней жизни. А спросили присутствующих вот о чём:
Как решить проблему свободного употребления мата?
Сажать на пятнадцать суток или на пару лет?
Легализовать мат?
Или отменить само понятие «мат»?
Словом, обсудить тему «Россия без мата»
Михаил Полицеймако, Заслуженный артист России обратил внимание на то, что нет законов, запрещающих применение мата в Интернете, а ролик, по его мнению, был снят специально для подростков, входящих в Интернет. Он считает, что от свободы слова осталась только свобода мата, поскольку депутаты Госдумы ничего не делают в этом отношении, и бороться с матом можно только кнутом.
Но когда Анна Шатилова рассказала о том, что в театре шёл спектакль, в котором речь артистов почти полностью состояла из ненормативной лексики, то тот же заслуженный артист Полицеймако ответил, что это театр, где шёл разрешённый спектакль по разрешённой пьесе. Правда, его комментарий остался никем не замеченным, а Шатилова продолжала рассказывать о том, как в советское время в школе широко обсуждалось и осуждалось поведение ученика, если он курил и ругался матом.
Я хорошо помню это время. У нас тоже не допускали матерные выражения. Более того, я помню, как, попав на действительную службу в армию, испытывал дискомфорт оттого, что мои товарищи по службе посмеивались надо мной, говоря, что я не мужчина, раз не ругаюсь и не курю. И тогда я решил доказать им обратное. Однажды втайне от друзей купил пачку сигарет и потренировался затягиванию дыма. Потом, когда мы небольшой группой шли к месту дежурства, я в процессе разговора, что-то рассказывая, спокойно выругался матом, достал сигарету и закурил. Тут на меня обратили внимание, удивившись тому, что я курю. А я сказал, что не только могу курить, но и выругался, однако никто этого не заметил, добавив, что всё это делать очень даже легко и никакой мужественности при этом не требуется, а вот отказаться от ругани, научиться говорить нормальным языком и не курить – это значительно труднее, в этом-то и проявляется настоящий характер. Сказав это, я достал пачку сигарет, бросил на землю и растоптал, спросив, кто ещё может так сделать? Мой друг Артур ответил тогда: «А вы знаете, пацаны, Женька прав», и тоже бросил курить и ругаться.
Помню ещё, как сразу после школы пошёл работать на киностудию, где коллеги по работе киношники приносили мне свои извинения, если случайно выругаются матом в моём присутствии, так как знали, что я не терплю нецензурных выражений. Один из кинорежиссёров в сердцах выругался матом на съёмочной площадке, после чего приносил извинения на общем собрании, пообещав никогда больше этого не допускать. И надо сказать, что ненормативная лексика в те времена, хоть и была, но не висела в ушах постоянно, как это бывает в наши дни.
Я не стану описывать подробно возмутившую меня передачу по каналу НТВ, когда во всеуслышание в студии звучали матерные слова настолько явственно, что интеллигентная женщина Анна Шатилова собиралась даже покинуть передачу. Член совета директоров издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев в присутствии всех употребил слово, которое звукорежиссёру передачи пришлось забивать сигналом, но не счёл нужным извиниться. И это был не единственный эпизод в передаче. То есть участники обсуждения сочли возможным во время дискуссии использовать те самые выражения, против которых будто бы была направлена передача. Кинорежиссёр Юлий Гусман заявил, что употребление мата, как употребление вина, от которого некоторые не могут отказаться. Поясняя свою позицию, направленную против применения мата, он произнёс нецензурное слово для примера, забитое для телезрителей звуковым сигналом, и тоже не подумал извиниться, так как он говорил о слове, которое встречается иногда в литературе.
Дали даже слово рэперу Роману Жигану, который выступает со сцены с матерной лексикой. Он упомянул, что к нему приезжал с поздравлениями премьер-министр Путин, и затем прочитал стихи с матерными словами, за что был награждён аудиторией аплодисментами.
На весь экран показали строки, написанные Солженициным, Пушкиным и Лермонтовым, в которых употреблены бранные нецензурные слова. Телевизионная студия взорвалась аплодисментами. Затем предоставили слово Алексею Плуцеру-Сарно, автору большого словаря мата. Ну, уж он-то не мог обойтись не только без матерных слов, но и без того, чтобы некоторые из них подробно не разбирать по буквам, рассказывая об истории и этимологии.