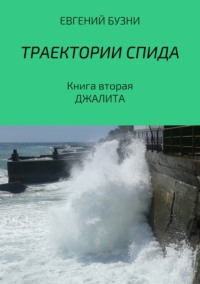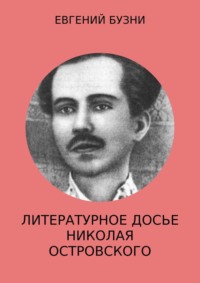полная версия
полная версияПером по шапкам. Книга вторая. Жизнь без политики
Наверно, я когда-нибудь умру.
Быть может, это будет и разумно.
Надеюсь, что хоть этим я уйму,
умаслю я умаявшихся уйму.
Не будет хитрой цели у меня.
Но кто-то с плохо сдержанною яростью,
наверно, скажет, что и умер я
в погоне за дешёвой популярностью.
В постперестроечное время Евгений Евтушенко уже не популяризирует это своё стихотворение, написанное более сорока лет назад. Теперь он не борется за коммунизм и не вспоминает о нём. Мне кажется, в этом слабость не только его, но и многих других замечательных художников слова, сломленных тяжёлыми катками перестройки. Однако важно то, что написанные некогда произведения уже не вырубишь никакими топорами перестроек и революций. Мода на поэта Евтушенко прошла и вряд ли возвратится, но ценность написанных им произведений никуда не исчезнет. Когда Евтушенко был на вершине своей популярности, я любил его произведения не за то, что поэт был моден. Более тридцати лет назад я написал об этом стихи, которыми и хочу поставить точку в разговоре о моде:
Стоят зеваки,
рты разиня.
От удивления повылазили очи.
В маленьком городке,
в книжном магазине
Евтушенко в очереди…
Евтушенко в очереди!
–
Евтушенко в очереди?
Где? Покажи.
–
Голову не морочь,
не дребезжи
Книга поэта
продаётся в очередь,
и каждому это
хочется очень.
–
Прошу, продай!
–
В кассу плати!
–
Евтушенко?
–
Да.
–
Пустите!
–
Пусти!
Прекратите повторять:
–
Евтушенко моден был.
Могли часами дни терять,
За книгой его в очереди.
–
Где? Где Евтушенко?
–
Вон, на прилавке.
Хватай, не мешкай,
со всеми добавками.
–
Дайте, пожалуйста, ну одну.
Я из Союза писателей.
Не писатель, но буду,
Буду обязательно.
Пол потрескивая
каблучками дробными,
из кулинарного треста
девчоночка модная:
–
А читали вы о Разине?
Разве нет?
Смелым головы отрезали,
И привет.
А у Разина, скатившись в сторону,
но жива,
хохотала над царём в глаза и в бороду
голова.
Пусть других гримаса сводит.
Евтушенко моден, моден.
Но история запомнит –
с тем и сказано –
как хохочет голова Стеньки Разина.
И другие будут так же
хохотать,
на царей глазами страшными
сверкать.
Прекратите говорить мне:
Евтушенко моден был.
Я за его книгами
в очереди, в очереди!
Модно петь одно и то же.
Модно вылезти из кожи,
но вложить заряд в слова,
но будить колокола,
разрезать тоску распилом
и толкать кого-то в спину:
–
Мимо, мимо не пройди!
Не умри на пол пути!
Дело здесь совсем не в моде.
Шаг вперёд
живёт
в народе.
13.06.2006
Проза.ру, 21.12.2008
Репортаж с больничной койки
Ныне действующий президент России Владимир Путин не раз выступал с заявлениями об успешном выполнении национальных проектов, ответственность за которые несёт только что избранный президент Дмитрий Медведев. Одним из таких проектов является улучшение системы здравоохранения в стране. В подтверждение слов Путина телевидение не раз показывало посещение Медведевым строящегося медицинского супер центра, оснащённого самым современным оборудованием. Однако почти никто не говорит о плачевном состоянии нашей медицины в целом.
Писатель Евгений Бузни не по своей воле, а по причине болезни, оказался в одной из московских больниц. Его репортаж рассказывает о поистине шокирующих условиях, в которых находятся даже столичные медицинские учреждения.
Сразу оговорюсь, что ни номера московской больницы, куда меня привезли на скорой помощи, ни каких-либо имён я называть не буду, но не потому, что боюсь журналистской ответственности (этого со мной не бывает), а по той причине, что, как я понял из бесед с коллегами пациентами, то, о чём я хочу поведать, весьма типично для многих больниц, не относящихся к разряду элитных или иных специфического характера.
Ну, к примеру, во всех больницах принято не давать больным ни ложек, ни вилок, ни чашек, полагая, что весь этот инвентарь обеспечивается самими пациентами. Исключением является, наверное, Центральная клиническая больница, в которой лечатся президенты и иже с ними. Там, как я думаю, недостатка в таких мелочах не случается, а потому никто из больших руководителей и не предполагает, чем же живут рядовые лечебницы простого народа.
Читатель, конечно, догадался, что я поведу речь не о частных клиниках, а о бюджетных. В частных, за большие деньги ситуация вероятнее всего иная. Но почему в государственных больницах нужно приносить свои столовые приборы, которые в масштабах больничных затрат стоят в общем-то копейки, мне непонятно, особенно, когда слышу, как наше правительство совершенно сбивается с ног в поисках, куда и как расходовать накопившиеся непомерные валютные резервы.
Однако жанр репортажа требует определённой последовательности изложения, так что начну всё по порядку.
Машина скорой помощи прибыла за мной довольно скоро после телефонного вызова. Врач сразу оценила ситуацию и сообщила, что, вероятнее всего, потребуется госпитализация. Естественно, мою жену обеспокоил вопрос, что нужно с собой взять для будущего больного, давать ли халат, еду и прочее. Ответ был весьма обнадёживающим: ничего не нужно, кроме спортивного костюма и домашних тапочек.
Тут надо пояснить читателю, что по ходу репортажа я буду делать некоторые отступления в прошлое, поскольку последний раз я побывал на больничной койке лет тридцать с лишним тому назад, в то старое советское время, которое не ругает сегодня только ленивый или уж особенно дотошный правдолюб.
Так вот впервые во взрослом состоянии я попал в госпиталь, будучи рядовым солдатом по довольно смешному поводу. Мне нужно было поправить испортившиеся передние зубы, а в нашей маленькой закрытой воинской части этого сделать не могли. Вот и направили в Ивано-Франковск (в то время называвшийся Станислав). Прибыл я в приёмное отделение практически совершенно здоровым человеком, но меня раздели до гола и заставили надеть больничную одежду, включая специальный больничный халат. Свою одежду я получил лишь при выписке.
Читатель усмехнётся: «Так, то ж военный госпиталь!» Это правда. Но, лет десять спустя, мне опять довелось попасть теперь уже в гражданскую больницу, и опять по пустяшному поводу. Причиной беспокойств оказалась несколько пониженная кислотность в желудке, вызванная, по-видимому, специфическим режимом питания за границей, откуда я только что приехал. Поместили меня на обследование всего на несколько дней в заштатную больничку посёлка Гурзуф, что на Южном берегу Крыма. Там меня тоже полностью раздели, отобрав временно одежду и заменив её больничной, включая халат.
С тех давних пор я побывал во многих больницах и госпиталях, но только за рубежом в качестве переводчика при болевших иногда советских специалистах да в больнице российского шахтёрского посёлка Баренцбург на архипелаге Шпицберген. О них я буду вспоминать тоже в порядке сравнения.
Теперь я ехал в одно из московских больничных учреждений, с которым, кстати, уже был до этого несколько знаком, поскольку приходилось бывать в нём в качестве посетителя, когда в больницы пускали только в белых халатах и обязательно в сменной обуви, что тоже было в традициях ушедшего советского времени. Памятуя эти времена, я и высказал пожелание поместить меня именно в эту больницу, хорошее впечатление от которой я не мог забыть и часто при случае делился им с иностранцами.
Через некоторое время после бумажных формальностей меня принял дежурный врач, мгновенно устранил возникшую у меня проблему, но порекомендовал тут же лечь на стационарное лечение с возможной операцией, дабы обострение не повторилось и не случилось ничего хуже. Я согласился, понимая серьёзность ситуации. Да и не ожидал другого. Сюрпризы начались несколько позднее.
После несложных пока обследований с аппаратурой и без неё меня, наконец, проводили в мою палату, где я оказался шестым пациентом. Возле аккуратно застеленной койки не оказалось тумбочки. Шкафчиков для одежды в помещении не было вовсе. Стулья отсутствовали. Я в растерянности смотрел вокруг, не понимая, куда девать свою куртку и другую верхнюю одежду, чтобы сменить её лёгким спортивным костюмом.
«Ветераны» палаты обнаружили одну пустую тумбочку, но такую же поломанную, как все остальные в комнате. Пришлось упаковать в нижнее отделение верхнюю одежду, а обувь поставить под кровать. Только теперь я мог подумать о пище, вспомнив, что с самого утра ничего не ел, а за окном уж давно стемнело. Однако выяснилось, что ужин имел место пару часов назад и до утра меня никто не покормит. Дежурный врач на мою просьбу разрешить выйти из больницы, чтобы купить в соседнем магазине чего-нибудь поесть, буквально вытаращил глаза, заявив, что впервые в жизни слышит от пациента такую просьбу, и предложил спокойно поголодать до утра.
Кроме голода меня одолевала и жажда. Тут мне подсказали, что в помещении столовой всегда стоят чайники с кипячёной водой. Три чайника я действительно обнаружил, но у меня не было с собой никакой посуды. Попросил у пробегавшей мимо медицинской сестры какой-нибудь стаканчик, чтобы утолить жажду. Красивая девушка, хоть и была занята своими мыслями, вежливо выслушала меня и, уже на бегу бросила в ответ: «Больные должны приходить со своими кружками, а у нас ничего нет».
Поразило не то, что в больнице нет стакана (в это я просто не верю), а полное отсутствие у персонала желания оказать реальную помощь впервые попавшему к ним больному, отсутствие элементарного сочувствия, с которого фактически должна начинаться любая больница, как театр начинается с вешалки. Сочувствие, сострадание. С недостатком этих замечательных качеств, в общем-то, присущих русскому человеку, мне, к сожалению, пришлось столкнуться в больнице неоднократно. Несколько глотков из чайника я всё же сделал, приложив к его носику ладонь, сложенную трубочкой.
Мой друг, приехавший через пару дней навестить меня, рассказал, что когда недавно сам был в больнице, то в приёмном покое ему открытым текстом предложили заплатить некоторую сумму денег, чтобы получить отдельную палату и хорошее обслуживание. В первый момент они с сопровождавшей его женой опешили от такого предложения. Растерявшаяся женщина пролепетала, что в кошельке пока только три тысячи рублей. Но оказалось, что для начала хватит и одной тысячи. Откровенно скажу, что меня в приёмной, куда я попал, с таким вариантом не познакомили, потому, может быть, я и страдал от неизвестности и непонимания, как и все стандартные больные, от имени которых я и выступаю со своим репортажем.
Больные же со стажем лечения в разных заведениях обратили моё внимание на то, что, если бы я дал врачам скорой помощи хотя бы пятьсот рублей, то меня повезли бы в любую больницу, какую бы я ни попросил. Такого фокуса я тоже не знал. Что говорить, ради своего здоровья любой страдалец готов выложить любую доступную для него сумму. Вопрос только в том, что же ему доступно и достаточно ли это будет неожиданным рэкитёрам. А если заболел бедный человек? На днях к нам в палату попал мужчина с такой внешностью, что ему пришлось доказывать врачу, что он не бомж, хотя она его об этом и не спрашивала и никаких намёков по этому поводу не делала. Просто он сам понимал, что не относится к разряду средне обеспеченного москвича и просил обращаться с ним, как со всеми. Врачу долго пришлось убеждать его, что для бомжей в Москве совсем другая больница и по другому адресу. А когда этому же больному сказали, что нужно делать операцию, то первый вопрос, который он задал, меня потряс: «Сколько это будет стоить?»
– Бесплатно, – коротко ответила врач, но нужно ваше официальное согласие.
Я не хочу сказать, что сам бесчувственный человек и никого никогда не благодарю за помощь. На Руси не случайно говорят: долг платежом красен. Если к тебе относятся по доброму, отдают всю душу, то почему же не поблагодарить? Однако добровольно, от всей души, когда от признательного подарка и отказаться невозможно, чтобы не обидеть. Совсем другое дело, когда этот подарок ждут и даже заранее оговаривают, а от его стоимости зависит и отношение к тебе, которое, между прочим, оплачивается государством из наших же налогов.
Читатель скажет: «А кому это неизвестно? Все всё знают». И он будет прав. Но воз-то и ныне там. В чём же причина? Где те камни преткновения, мешающие нам жить лучше и счастливее?
Вот, например, один из них. Если медицинский работник, от умения и знаний которого полностью зависит судьба того или иного человека, получает такую зарплату, что он постоянно думает, где бы и как ещё заработать на приличную жизнь, то отнюдь не исключено, что его подход к больному будет определяться финансовыми возможностями пациента. Обычному страдальцу он может прописывать и осуществлять лечение строго по инструкции, казалось бы, не нарушая данную им некогда клятву Гиппократа. Но ведь организмы людей, заболевших даже одной и той же болезнью, разные, а потому без творческого подхода к процессу лечения обойтись никак нельзя, как не может писать настоящий художник картины по шаблону или установленному стандарту.
Что бы вы ни говорили, но врач тоже лицо творческое. А творчество без вдохновения вряд ли может быть настоящим. Вот и получается, что по инструкции можно прописать человеку уколы, которые тот едва переносит, или предложить операцию, что может завершиться смертью, а можно, подойдя творчески, сказать пациенту: «Знаешь что, батенька мой (или милая матушка), не попробовать ли нам вылечиться без таких крайностей? Изучив все твои анализы и состояние организма, думаю, можно попробовать вот что…»
Обычно так и разговаривают опытные специалисты-медики со своими родными, близкими или друзьями, попавшими на больничную койку. Могут так говорить и с теми, кто заранее объявил, что заплатит хорошие деньги за лечение. Правда тут подстерегает другая опасность. Бывают врачи – рвачи. Такие, заметив «золотую жилу», намеренно будут делать всё, чтобы лечение было как можно дольше и дороже. Каждому врачу в душу не заглянешь. Насколько искренне и верно он говорит, не всегда проверишь. Вот почему так важно изначальная подготовка не просто врача с дипломом, а квалифицированного специалиста, беззаветно преданного профессии, любящего людей, то есть готовить таких, как Чехов, который с ланцетом ездил к беднякам на дом, а не Жиль Блазов из Сантильяны французского романиста Лесажа, знавших из всех медицинских средств только питьё воды в сочетании с кровопусканием, позволявшее пациенту в обязательном порядке либо умереть, либо выздороветь.
Пока я сижу и работаю на своём ноутбуке, сосед по койке, не зная, о чём я пишу, рассказывает свою историю.
«В начале года я попал в другую московскую больницу в связи с болезнью желудка. Мы с дочерьми платили за лечение, покупали дорогие лекарства. Месяц пролежал, потом дочерям при выписке сообщили, что у меня большая язва и необходимо удаление желудка. Началась подготовка к операции. Направили меня в другую больницу для рентгеновского снимка. Там я попутно поговорил с каким-то старичком-профессором. Тот спросил, зачем я хочу делать операцию. Короче говоря, вскоре выяснилось, что язва моя давно зажила и хирургическое вмешательство не требуется, а рекомендованные мне лекарства типа «мезим – для желудка необходим» не только не помогают, но даже вредят желудку. Вы не представляете, какой был скандал в моей больнице, когда узнали, что я отказываюсь от операции. Ну как же, потеряли четыре тысячи долларов, которые за неё просили».
Кстати хочу пару слов сказать о рекламе. Один из моих коллег по палате рассказал, что, страдая от аденомы простаты, он начал пить рекламируемый по телевидению «простамол», и почти сразу же почувствовал ухудшение здоровья, что привело его на операционный стол. Узнав о том, чем пытался вылечиться больной, врач хмуро заметил: «Надо лечиться не по телевизору, а в больницах». Но вернёмся к нашему репортажу.
Утром в коридоре прозвучало нечто трескучее, протяжное, что, как выяснилось, было сигналом идти завтракать. Будучи очень голодным, мне не трудно было оказаться в числе первых в образовавшейся сразу очереди. Чашку и ложку раздатчица пищи мне дала, пояснив, что возвратить их нужно немедленно, как только привезут из дома, а то другим вновь поступившим нечем будет есть. К счастью, обедать мне довелось уже своими приборами, поскольку после завтрака жена доставила всё, что мне стало известно, как необходимое для спокойного лечения.
Но в обед меня поджидал другой сюрприз. После сигнала, прозвучавшего неожиданно без десяти минут час, я увидел как больные в домашних халатах, спортивных костюмах, платьях и кофточках, а кто-то почти раздет с висящими на груди или боку мешками, наполненными мочой, в руках ложки, вилки и кружки, ринулись в столовую. Теперь уже я не торопился в очередь, а пошёл в свою палату съесть для аппетита пару помидор. Каково же было моё удивление, когда минут через десять войдя в обеденный зал, увидел его почти пустым. Моё удивление тут же переросло в изумление, буквально взорвавшееся негодованием, поскольку из раздаточного окна послышалась громкая брань в мой адрес по поводу того, что я шляюсь неизвестно где, а гоняться за мной никто не собирается, тогда как все должны быстро поесть и убираться, ибо раздатчице (а ругалась именно она – женщина солидного телосложения и не менее солидного возраста) некогда.
Сдерживая своё возмущение, я поинтересовался, почему дама разговаривает со мной таким тоном, словно я нахожусь в тюрьме, отбывая наказание за провинность перед обществом. На всякий случай сообщил женщине, продолжавшей кричать и буквально швырнувшей мне тарелки с едой, что я как журналист очень интересуюсь культурой обслуживания в больнице. Слово «журналист» произвело некоторый эффект: раздатчица снизила тональность речи, пробормотала что-то близкое к «извините», и вспомнила, что не положила мне на тарелку печенье.
Я уж не говорю о том, что в обеденном зале стояли столы непокрытые скатертями. Не замечаю того, что на столах отсутствовали общепринятые приборы: соль, перец, горчица и, извините за банальность, салфетки. Этого, как я понимаю, бюджет больницы не предусматривал. Но разговор. Внимательное отношение к больным, нервы которых расстроены уже самой болезнью, мне думается должно быть всегда, на любом этапе лечения.
После этого инцидента мне довелось ещё пару раз объяснять этой не в меру разнузданной женщине, которая, как мне сказали, ведёт себя так грубо всегда и со всеми больными, что в больницу люди попадают отнюдь не по своей воле, и их успешное лечение зависит не только от врачей, но и от доброго отношения всего остального обслуживающего персонала. Однако она продолжала кричать то одному, чтобы он не наливал слишком много компота в свою огромную кружку, то другому, что она не даст ему добавки, потому что он ей не нравится. Дополнительную порцию пищи она, правда, не давала никому.
В самом деле, порции всегда были настолько маленькими, что ими впору кормить только котят. В беседе с заведующим отделением я высказал своё недоумение порядком кормления. Он попросил написать об этом письменно. Написал, рассказав о грубости, и предложил вывесить расписание завтраков, обедов и ужинов, дабы больные заранее могли планировать своё время, а так же предложил вывешивать меню-раскладку, чтобы больные знали их рацион питания. Реакция на мои предложения оказалась почти нулевой. Только раздатчица стала немного сдерживать себя и стараться молчать. Не знаю, насколько её хватит.
Вспоминаю, как я дежурил у постели больного российского мальчика в госпитале пакистанского города Карачи. Мальчика и сопровождавшую его маму, кормили в палате. Еду привозили на тележке. Это понятно, поскольку мальчик лежал с загипсованной рукой, прикреплённой к стойке. Мне разрешалось питаться в кафе. Но питали нас, как говорится, словно на убой. В огромные тарелки накладывалось большое количество гарнира в виде риса или жареной картошки, предлагалось по половине жареной курицы, овощи, фрукты. Словом от голода мы страдать не могли. Чай или кофе могли пить в неограниченном количестве в любое время.
Между прочим, в Норвегии я встречал даже гостиницы, в которых для постояльцев установлены автоматические аппараты бесплатной выдачи чая или кофе. Я уж не говорю о больницах.
В нашей больнице, из которой я веду репортаж, тоже в фойе есть автоматы напитков, но платные.
Однажды питавшиеся в столовой заметили, что выдаваемые им варёные яйца далеко не первой свежести, то есть тухлые. Многие начали поднимать скандал и возвращать яйца. Любопытным состоялся у нас разговор с раздатчицей.
– Почему вы даёте тухлые яйца?
– Я не знала, что мне дали.
– Но теперь вы знаете и продолжаете их давать больным людям.
– Я сказала женщине, что яйца тухлые и спросила, будет ли она брать. Она взяла.
– Но вы не имеете права давать испорченную пищу.
– Это надо обращаться не ко мне.
Вот и весь разговор. Заведующий отделением тоже порекомендовал обратиться к диетсестре, но увидеть её мне не довелось за всё время пребывания в больнице.
Можно было бы, конечно, сказать об этом во время ежедневных утренних или вечерних врачебных обходов. Их обычно совершают по два человека в белых халатах. Один из них спрашивает:
– Какие проблемы? На что жалуемся?
Кто-то с больничной койки сообщает робким голосом:
– У меня, доктор, температура.
И слышит в ответ:
– Это хорошо. У кого нет температуры, тех мы отправляем на кладбище.
Ответ в стиле чёрного юмора особенно оригинален в нашей палате, широкие окна которой смотрят во двор больницы с одноэтажным зданием морга посередине. Сюда ежедневно по утрам собираются группы скорбно одетых людей в ожидании катафалка, чтобы проводить в последний путь кого-то из своих близких.
Надо признаться, что врачи больницы, хоть порой и с чёрным юмором, но очень профессиональны, имеют большой опыт, умеют делать операции и, что не менее важно, лечить. Даже тогда, когда попадаются капризные больные, желающие просто полежать и предлагающие врачам разгадать причину неких неясных симптомов, эскулапы проводят обследования, назначают те или иные меры воздействия, приглашают по просьбе больного разных специалистов, и, только исчерпав все свои не очень богатые возможности, неожиданно выписывают пациента, объяснив, что его солидный возраст уже не позволяет ему чувствовать себя существенно лучше.
О возможностях больницы стоит поговорить отдельно. Разумеется, здесь есть кое-какая аппаратура. Некогда, как я уже писал, эта больница была оснащена по первому слову техники. Но в технике появились новые слова, которые сюда давно уже перестали доходить.
Когда я приехал работать на Шпицберген, больница шахтёрского посёлка Баренцбург – форпоста России в Арктике тоже была оснащена по первому слову техники и тоже давно. А в это время в соседнем норвежском посёлке Лонгиербюен построили новый госпиталь с новым оснащением. Тогда руководство госпиталя предложило своим российским соседям в порядке шефской помощи свой большой рентгеновский аппарат из старого госпиталя. Для них он морально устарел, но всё же был лучше нашего в Баренцбурге, ещё старее. Мы с благодарностью приняли дар. Аппарат привезли, выделили для него в нашей больнице помещение и потом года два не могли его установить и пустить в работу, поскольку с материка никак не присылали специалистов наладчиков. Аппарат ведь у нас официально не числился.
Именно в этот период произошла такая история. В Баренцбург на своих снегоходах приехала отдохнуть группа норвежской молодёжи. Они пили в баре много пива, и когда собрались возвращаться к себе в норвежский посёлок, я пытался остановить их, предложив остаться в гостинице до утра и напомнив, что пятидесятикилометровый путь от одного посёлка до другого проходит через несколько крутых оврагов. Молодые люди весело помахали мне руками, уверяя, что они здесь давно живут и ничего с ними не случится. Однако, спустя некоторое время, они возвратились, так как в первом же овраге несколько снегоходов налетели друг на друга, и у одной девушки сломалась рука. Пришлось срочно везти её в нашу больницу, где хирург Покровский под нашим старым рентгеновским аппаратом стал править руку норвежской девушке. Стоявшая рядом медсестра вдруг заметила, что мне, смотревшему на этот примитивный способ выправления руки, стало плохо. Она быстро подставила мне стул, усадила и стала вытирать пот с моего взмокшего лица.