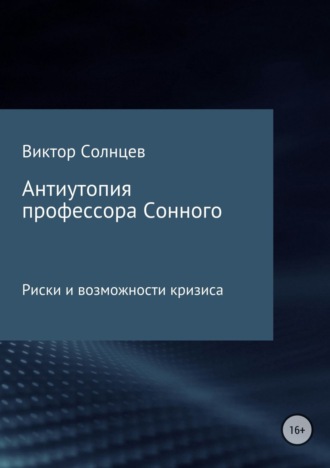 полная версия
полная версияАнтиутопия профессора Сонного
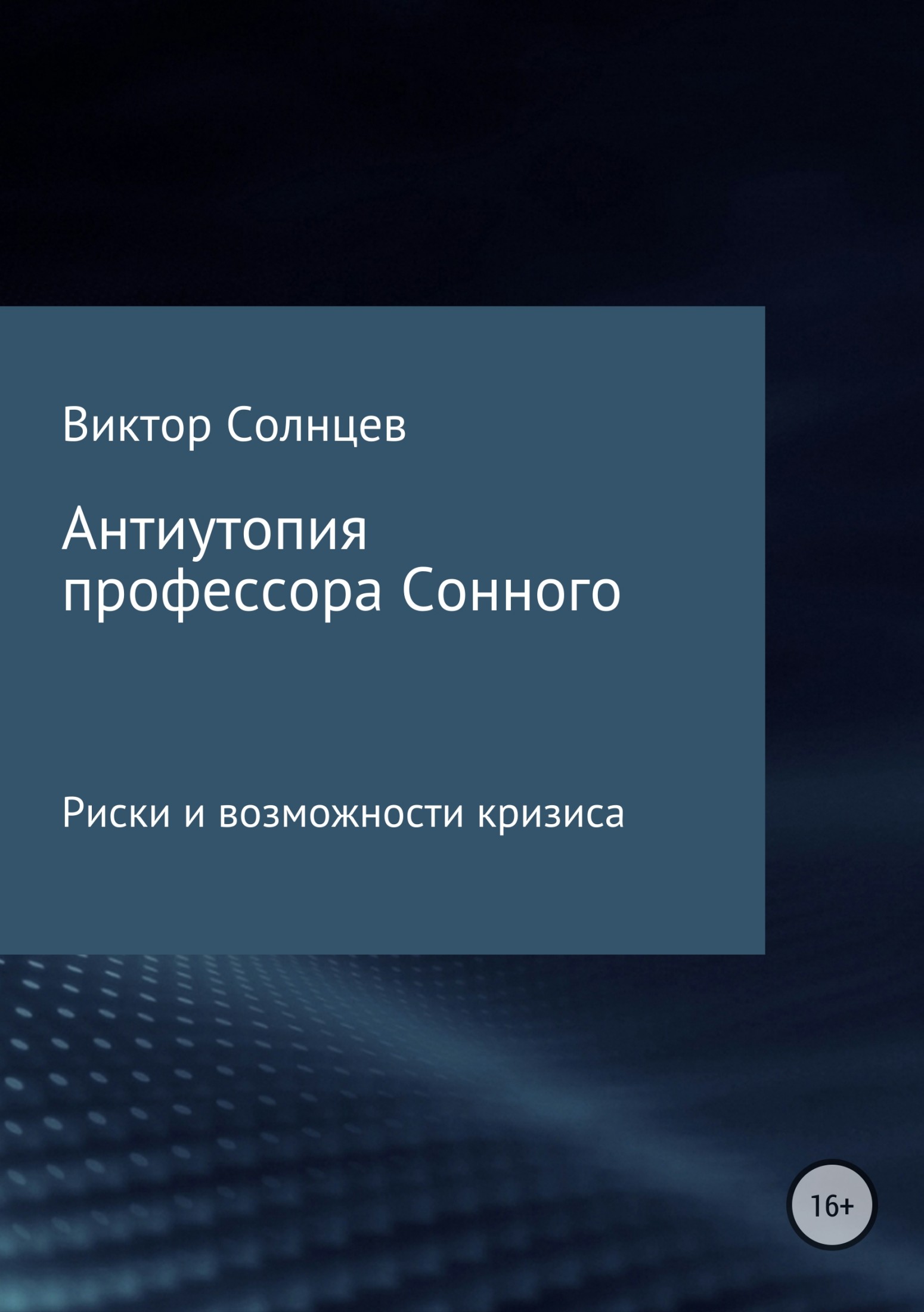
Слагаемые риска: эпоха VUCA и возможности перемен к лучшему.
Виктор Солнцев
Россия. Год 2018. Март. Начало весны.
У всех нормальных людей начало весны ассоциируется с надеждой. А уволенный из Университета за нехватку научных публикаций профессор Сонный уже три месяца находился в депрессии. Раньше он с таким удовольствием ходил на занятия, где его ждали молодые студенты и студентки. А теперь приходится сидеть дома и корпеть над текстом очередной никому не нужной, кроме него, статьи на экономическую тематику. Его лекции теперь читает молодой ассистент по конспектам, которые тот написал еще будучи студентом, сидев на первой парте с открытым ртом, и, как тогда показалось Сонному, подававшим большие надежды. Но сейчас надежда покинула самого профессора вместе с его окладом в 45 тысяч рублей. А ассистент, готовивший по заданию профессора слайды и раздаточные материалы к занятиям, получил должность доцента и надбавку за то, что научился говорить примерно то же, что раньше говорил сам Сонный по тем же слайдам. Студентам же все равно, а студенткам так даже интереснее смотреть на молодого доцента, чем на располневшего профессора.
В отделе кадров ему предложили оформиться инженером, но профессор гордо отказался. Тогда посоветовали обратиться на биржу труда, но Сонный постеснялся зарегистрироваться, и потерял возможность получить тройной оклад. Он бы ему сейчас очень пригодился: дача и машина уже требовали ремонта, жена – новую одежду и путешествия, дети – деньги на внешкольные занятия и отдых в каникулы. И, вообще, вопрос денег впервые за много лет заинтересовал профессора не с теоретической, а чисто практической точки зрения. Денег не было, но он держался.
В своих лекциях он не раз говорил, что кризис предоставляет новые возможности бизнесу, а риски и неопределенность помогают принять эффективные решения раньше других и получить более высокую доходность. Теперь, оказавшись в кризисе, приходилось анализировать причины, по которым сработали «триггеры» риска, и реализовалась та «угроза», нанесшая непоправимый ущерб экономисту со 30-летним стажем. К науке эта задача не имела никакого отношения, но представляла актуальность для «жертвы кризиса».
Россия. Олимпиада. Крым. РОК. 2014 год.
Началось все это в ноябре-декабре 2013 года, когда по слухам, доходившим до профессора от высокопоставленных слушателей программ переподготовки руководителей, многие российские игроки на финансовых рынках начали выводить свои деньги, продавая акции российских и украинских компаний. На Украине тогда начинался политический кризис, еще не жгли покрышки на майдане, но уже чувствовалась напряженность. На макроэкономических показателях пока ничто не отражалось. Никакой фундаментальный анализ не давал даже намеков на снижение курсов акций и биржевых индексов. Это было удивительно, но объемы вывода денег из украинских и российских активов были явно заметны даже регулятору – ЦБ.
В потоке новостей тогда профессор выудил новость о завершении 31 декабря 2013 года контракта на поставку в США оружейного плутония по программе «ВОУ-НОУ» или «НОУ-ВОУ» Гора-Черномырдина. Показалось странным, что сам Президент ее прокомментировал по телевизору с довольно четкой эмоциональной меткой типа: «ЙОХУ ВАМ». Памятуя слова одного знакомого инженера-атомщика, треть атомных станций Северной Америки были «подсажены на русскую иглу». Это было весьма серьезно.
Да и на Украине началось что-то заметное. По телевизору уже показывали разгон демонстрантов с реальными жертвами населения и силовиков, что удивительно. Появились какие-то три странных национальных лидера с лицами, на которых была нанесена печать полного отсутствия какой бы то ни было мозговой деятельности. По этой части диагностики у профессора был значительный опыт. Студент еще только заходит в аудиторию на экзамен, а Сонный уже знает, что тот получит: «хорошо» или «отлично». Троек профессор не ставил, так как не считал экономику точной наукой, скорее искусством психологической манипуляции массовым сознанием с непонятной целью.
Ни одна макро– или микро-экономическая модель, известная профессору, не предсказывала никаких кризисов ни в 2002, ни в 2008, ни в 2013. Только один известный пропагандист с экономическим бэкграундом лет десять подряд ежегодно предсказывал кризис, и тот, наконец, свершался, якобы на основе строгой научной модели. Был еще кремлевский советник, который из нескольких книг по цикличности развития экономики взял и наложил несколько графиков друг на друга, выявив очевидную истину, что «что-то-когда-то-где-то» произойдет с высокой степенью вероятности, «вери лайкли». И если немедленно не потратить все резервы, накопленные за «тучные» годы, экономика России не сможет быть конкурентоспособной в ближайшем длинном цикле Кондратьева, прекрасно коррелировавшим с солнечной активностью. Хорошо, что не с ретроградным Меркурием, подумал тогда профессор.
Потом началась Олимпиада в Сочи-2014, и профессор с удовольствием переключился на спортивные новости, да и сам иногда выезжал на подмосковные горки, выстроенные на бывших мусорных свалках. С покупкой квартиры по ипотеке профессор уже не ездил каждый год в Европу, как это было раньше, получая удовольствие от качества европейского сервиса, дешевых и качественных продуктов питания в местных магазинчиках и, конечно, напитков.
По части крепких напитков профессор был настоящим профессионалом-сомелье: он мог отличить «хайленд» от «лоуленда», «сингл-молт» от «бленда», «черного уокера» от «голубого прогульщика»… Но, к сожалению, эти отличия можно было прочувствовать по-настоящему только за рубежом или покупая бутылки в «дьюти-фри». Разнообразное зелье в городских супермаркетах только отдаленно напоминало те оригинальные напитки от шотландских самогонщиков. Да и характерная утренняя головная боль с шумом в ушах сразу выдавала контрафакт и подделку. К сожалению, на суррогаты хроническая аллергия профессора никак не реагировала.
Вообще, от аллергии в жизни профессора были весьма полезные последствия. Сразу после нескольких глотков молока, проглоченных кусков колбасы или сыра у него начинались сопли и чихание. Причем от качественных продуктов такого эффекта не было. Исследуя список содержимого на этикетках, профессор пришел к выводу, что того, от чего у него аллергия – на этикетках, как правило, не указывают. Просто в молоке, видимо, имелись жиры неизвестного происхождения, в мясе – белок неизвестного происхождения, а в сыре – и то и другое. Видимо, с коровами и быками в стране напряженно. Достаточно Минфину в регион не перечислить, а региону – не выплатить сельскохозяйственным предприятиям субсидию на килограмм мяса или молока, а также по оплате процентов за взятый сельхозкредит, как мелким аграриям приходится резать коров на мясо. А, как известно, молочные породы скота качеством и количеством мяса не обладают. Для крупных агрохолдингов всегда находились дешевые и длинные кредиты, а субсидии поступали регулярно.
Сухогрузы и танкеры оптовиков легко справились с поставкой российским сетевикам пальмового масла, сухого молока и соевого концентрата с фосфатным ангидридом. Причем достаточно одного килограмма последнего, чтобы на заводе первичной переработки мяса появилась тонна охлажденки с приятным вкусом и цветом, не отличимым от натурального. «Просто добавь воды» – вспомнил профессор одну старую рекламу, жаря как-то раз жесткий кусок «подошвы» в черной пене на сковороде. Больше ошибок повторять не надо.
Кстати, и на натуральные соки у него также была аллергия – продукты тонкой нефтехимической переработки придают прекрасный цвет и вкус городской водопроводной воде. Правда при этом они должны были бы называться сокосодержащими напитками, как и молоко – молочными, а пиво – пивными. Зато окупаемость и экономическая эффективность инвестиций в производство и продажу продуктов питания массового спроса привела к тому, что настолько инвестиционно-привлекательные активы привлекли внимание очень влиятельных инвесторов, а владельцев, создавших бизнес с нуля при полной отсутствии какой-либо поддержки, тоже, «панимаишь», привлекли – только уже к уголовной или иной ответственности.
Еще недавно профессор рассчитывал бизнес-план оптовой поставки виски дешевых сортов из Шотландии в Россию, где шотландцы готовы по нашей «особой» рецептуре делать из своих виноматериалов дешевый, но правильный напиток. Если оптовая цена «бухла» в пересчете на литровую бутылку, с контейнерной доставкой CIF до Риги была 1,3 Евро, то после «растаможки за 5 Евро литр» и доставки на оптовый склад, с отправкой в сетевые магазины, на полке она оказывалась уже за 13,3 Евро с традиционной накруткой. К Новому году товар дорожал до 26 Евро, на что не влияла даже девальвация рубля. За такие деньги можно уже было купить литр элитного виски в европейском супермаркете с гарантией качества и оригинальности происхождения. А у нас на праздник сметали с полок это пойло и хвастались перед гостями настоящим и редким шотландским виски.
Понятно, что Сонный обходил полку с этой бурдой стороной. Он вообще старался покупать спиртные напитки в магазинах «дьюти-фри», так как по результатам выполненного маркетингового исследования в России продавалось до 10 миллионов литров виски нешотландского происхождения в оригинальных бутылках с поддельными этикетками. Причем, что особенно удивляло шотландских вискоделов, там же на этикетке был указан адрес шотландской компании-изготовителя для отправки претензий по качеству продукции – и ни одного нарекания из России!!!
Последние дни Олимпиады профессор уже не смотрел. Он погрузился в анализ резких скачков на фондовом рынке, связанных с началом и развитием конфликта на Украине. Понятно, что после неэффективных с экономической точки зрения затрат на Олимпиаду, на рубль будет оказываться давление и, в конце концов, он будет девальвироваться, несмотря на запредельно высокую цену на нефть. Но почему в начале марта индексы в день просели на 15%? Неужели геополитические игроки что-то задумали. Снижение страновых рейтингов S&P вместе с FITCH с негативным прогнозом это подтвердили.
В марте к России присоединился Крым… А вместе с ним и экономические проблемы восстановления экономики полуострова, со строительством новой энергетической, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Многие коллеги Сонного за этот период заметно разбогатели, разъезжая за счет бюджетных грантов по Крыму, читая лекции бывшим украинским, а теперь новым российским бизнесменам, и оказывая посреднические услуги по купле-продаже активов бывших украинских хозяев полуострова новым русским патриотам оффшорного происхождения.
В это время у профессора все дни были забиты лекциями, зачетами, экзаменами. И выбраться с мастер-классом в осажденный полуостров он не мог, да и не торопился. Тогда у российских банков, имевших филиалы в Крыму, неожиданно отняли возможность проводить операции по картам VISA и MASTER. Друзья предупреждали, что при пользовании кредитными картами в Крыму могут потом возникнуть проблемы при получении виз в Европу и США. Рекомендовали везти наличные доллары.
В одной своей экономико-математической модели профессор внес возможность задержки платежной системы, на случай, если, например, отключат SWIFT. Коллеги его высмеяли, а потом очень пригодилось. С введением американских, а потом и европейских санкций, некоторым российским предприятиям точечно отключили SWIFT. В финансовом отчете такой компании, опубликованном на официальном сайте, профессор прочел, что это заметно ухудшило и без того не лучшее финансовое положение госкомпании, которая вынуждена была прибегнуть к дополнительным заимствованиям, чтобы покрыть кассовый разрыв, вызванный задержкой поступления денег от таинственного покупателя лучшего в мире носимого оружия.
Американские коллеги профессора, анализируя примерно такие же, как и у него, модели предприятий, но с реальными данными из облака корпоративных ERP-систем, пришли к очевидному выводу, что в результате санкций российская компания, попавшая в санкционный список, снижает обороты примерно на треть, а стоимость – вдвое. Это так трудно объяснять на лекциях: как влияют факторы рисков на показатели компании при фактической реализации угроз. Ведь надо бы, по-хорошему, заранее планировать вероятные угрозы и оценивать возможные потери по матрице рисков. А студенты сидели и просто слушали… Хорошо, что хоть слушали. Жалко, что не понимали.
Резкий скачок базовой ставки ЦБ с 9,5 до 17% в декабре 2014 года после девальвации рубля почти вдвое стал для Сонного шоком, хотя на лекциях студентам он так убедительно рассказывал о неизбежности девальвации, отвечая на довольно ехидные вопросы патриотически настроенных (или убедительно изображающих патриотизм) слушателей из госкорпораций. Его совет в сентябре 2014 скупать доллары был воспринят, как всегда, лениво и с пренебрежением. Научный прогноз – не факт. Может и не сбудется. Профессор же не профессионал, а «сор» -не «нал». Ведь и сам Сонный попался когда-то в 2008 на валютной ипотеке. Еще хорошо отделался. То, что начало твориться в январе 2015 с валютными ипотечниками – ничто по сравнению с его волнениями при предыдущей девальвации. Он тогда очень переживал.
Правда, девальвацией в прессе это не называли. Проводилась плановая коррекция курса рубля (далее эхо неразборчиво). Гаремн Ферг от лица Серббанка сначала просил докапитализировать свой инфраструктурный банк из средств Фонда будущих поколений или Резервного фонда, но ему в пятницу отказали в связи с исчерпанием средств и слиянием всех фондов в один. Тогда, буквально сразу в понедельник после «черных выходных», он с заметным оживлением сказал с благодарностью к Правительству, что уже не надо докапитализировать: в годовом отчете банка уже прибыль некуда девать. Пришлось даже выводить в зарубежные филиалы, далее через оффшоры в трасты. Хотя это может вызвать подозрение ЦБ и финмониторинга в незаконном получении сверхприбыли, отмывании средств и выводе их из России в таком объеме, что мало не покажется любому олигарху.
Чехарда с поведением валютных спекулянтов задела самого Президента, который строго выступил по телевизору с угрозами в адрес всех известных ему валютных спекулянтов, пригрозив наказанием и лишением чего-то важного и нужного им всем. Народу было непонятно, чего именно лишит их Президент, но профессору было даже немножко страшно за себя, так как он очень вовремя обменял свои рубли на доллары по верному совету верных друзей. И теперь, вздохнул с облегчением, удвоив свои накопления в рублях за пару недель.
Россия. Москва. Университет. 2015 год.
В конце 2014 года первый «триггер» лично и больно ударил по профессору с неожиданной стороны. Его, конечно, предупредили об увольнении, как положено, за два месяца. Но он не воспринял это серьезно. Он был уверен, что так нужен родному вузу со своим курсом, всегда вызывавшим такой интерес у студентов и поднимавший его рейтинг среди коллег. Понимая, что руководство вуза должно отчитаться об оптимизации численности профессорско-преподавательского персонала и повышению средней заработной платы штатных преподавателей, его увольнение, вместе с увольнением многих его коллег, решает одновременно сразу обе задачи, формируя в отчете хорошие значения KPI для премирования руководителей от экономии фонда оплаты труда.
Ожидая, что вот-вот его вызовут в Управление кадров оформлять пожизненный контракт по типу западного «профессор эмеритус», он всю зиму сидел дома, изучая сводки с фондовых рынков и бирж, читая статистические отчеты по экономике страны и годовые отчеты крупных компаний, на 75% формирующих доходы бюджета. Прочитав между делом годовой отчет своего родного вуза, он понял, наконец, истинные причины оптимизации: бюджет университета, цифры из которого он помнил пару лет, снизился в полтора, а не на полтора! Раза, а не процента. При этом численность приема не сократилась, а, наоборот, увеличилась. Особенно резко увеличилась численность приема на платные программы бакалавриата и магистратуры. Достаточно было поднять входные планки минимума по ЕГЭ. Вот это да! А в вузе только и обсуждается, что нагрузка растет, отчетность зашкаливает, зарплаты преподавателей падают…
Теперь все понятно, его в вузе уже не очень ждут. Он вдруг с болью вспомнил, как на лекциях по эффективному управлению для руководителей университетов он рекомендовал оптимизацию бизнес-процессов и реорганизацию оргструктуры для снижения издержек и повышения рентабельности. И сам попал в ту же ловушку, что описывал. Говорил, что надо стараться общие издержки, по-максимуму, перевести в прямые, например – постоянную зарплату сотрудников разделить на базовую и бонусную часть, в идеале – всю зарплату платить «сдельно» – за выполненный объем работ. Только сейчас он сам оказался в качестве оптимизированного и выведенного за штат аутсорсера-почасовика с неопределенным объемом преподавательской нагрузки и минимальной почасовой оплатой.
На экзаменационной сессии о нем вспомнили и пригласили на госэкзамены и защиты дипломных работ. Выписанных за это денег на отпуск, конечно, не хватит, но присутствие на церемониях выпуска всегда почетно, даже если студенты тебя некогда не видели в аудитории. Заодно, можно узнать у коллег, что произошло во время его отсутствия на кафедре, кого еще уволили или приняли, что там с обещанным давным-давно повышением ставок преподавателям и учителям? Каждый раз вызывало искреннее удивление, что объявленная средняя зарплата профессора вуза достигла уже трехзначной цифры, только все его коллеги-профессора подозрительно переглядываются и ищут этого среднего профессора на кафедре, подозревая, видимо, его – уволенного, но приглашенного в том, что уже не знаю, чего и сказать…
Летом он снова вернулся к годовым отчетам российских компаний и ему открылась неприглядная истина: обороты компаний сократились не только в валюте, но и в рублях при том, что количество выданной «на гора» нефти, газа, угля и стали бьет все прежние рекорды. Он, наверное, упустил резкое снижение цен на нефть, а через полгода – на газ, уголь и другие экспортные товары. Теперь вот и санкции Трампа по поддержке американского производителя стали больно ударят и по нашим «плавкам».
В отчетах компаний очень динамично и позитивно были описаны крупнейшие инфраструктурные проекты, которые уже однозначно не состоятся в ближайшее время из-за нового уровня санкций. А так, наверное, хотелось доставить нефть – китайцам, газ – европейцам, ядерное топливо и сталь – американцам. Добывая это все на шельфе, которого нет из-за отказа норвежских подводников, сжижая это недобытое сырье на построенных для этого заводах, доставляя пустоту в построенных газопроводах, беря с таким трудом ранее доступные дешевые и длинные кредиты, конечно дорого и не надолго, российские голубые «фишки» изменили цвет и стали коричневыми на дэш-бордах инвесторов. Имеется в виду: не тронь, оно не для инвестирования.
Стоимости акций компаний вместе с индексами упали на 50% за один год. Интересно, а сколько корпоративного долга у них было? Если больше, чем стоимость компании, то инвесторы имеют право «позвонить в колокол», объявив «марджин-кол» с переводом долга в акции компании и долю управления. Это может стать «осиновым колом» для наших топ-менеджеров, когда в Советы директоров войдут нежелательные иностранцы китайского или индийского происхождения и потребуют отчета о нецелевом использовании целевых инвестиций…
Что это все значило для самого профессора Сонного? Да ВСЕ! «ДБ!» – по меткому выражению министра иностранных дел. Если крупный бизнес России снизит свои финансовые показатели, то в бюджеты регионов и страны поступит заметно меньше денег в виде акцизов и налогов. Если все нефтегазовые монополии попросили и сразу получили льготы по налогам на несколько лет вперед, значит, поступления налогов в бюджет будут совсем маленькие, если не выжмут много из малого и среднего бизнеса вместе с гражданами. Сам малый и средний бизнес сжимается и по объему, и по численности, в год закрывается по полмиллиона юрлиц и ИП. Средняя численность персонала МСП при этом снизилась на четверть, лишив дохода сразу несколько миллионов работников. А налоговые отчисления в этом году увеличились на 20%, по данным из годового отчета ФНС, хотя налоговая база не увеличилась. Парадокс с научной точки зрения…
Куда пойдет значительная часть бюджетных денег, профессор знал по отчетам ФАС и Счетной палаты, а также по выводам международных организаций по борьбе с коррупцией, но почему-то наш следственный комитет и налоговая служба этими делами не занимается. Только один процент малых предприятий используют инструменты поддержки малого бизнеса, получают госзаказы и выигрывают тендеры предприятий с госучастием. Только один полковник в своей квартире хранил сумму, превышающую годовые бюджеты некоторых городов с населением до полумиллиона человек. Дальше лучше не продолжать.
Приоритеты распределения бюджета отчетливо просматриваются на диаграммах инфографики, год от года доли на образование, здравоохранение и социальную сферу сокращается. Значит, доля университета на рынке образовательных госуслуг снизится, по крайней мере, в денежном выражении. Соответственно, фонд оплаты труда преподавателей, и без того небольшой, уменьшится. Ведь руководители не должны страдать – на управление огромными материальными активами вуза уходит так много сил и средств. То, что основным активом Университета являются нематериальные активы и их носители, было известно на основании анализа балансов ведущих мировых университетов. Но для нас Европа – уже не указ, если уже покушаются на святую Болонскую корову и пытаются отменить ЕГЭ.
Так что ожидается повышение конкуренции за бюджет между небогатыми региональными вузами и крупнейшими столичными университетами. Кто кого в этой неравной схватке победит – известно. Укрупнение вузов и поглощение вузов-банкротов – естественный процесс. При поглощении производятся массовые увольнения, в основном, преподавателей, так как они пока еще составляют большинство по штатному расписанию. Но это уже ненадолго. Лет на пять хватит.
Разрабатывая по просьбе одного ректора абсолютно оптимальную модель вуза по критерию экономической эффективности его частных инвестиций, сразу получился образовательный портал с дистанционными курсами, купленными дешевле оптом и проданными дороже и в розницу. С выдачей диплома установленного образца, напечатанного в неустановленной типографии. Основным ограничением для России оказалось отсутствие в мире курсов на русском языке и тотальное невладение иностранными языками у российских студентов. Нет, конечно, язык они учили и знают. Только не могут по видеозаписи на портале понять, на каком языке проводится занятие американским профессором в китайском вузе.
Переводить всю эту наукообразную учебную ахинею с иностранного языка на русский очень дорого, да и наши профессиональные переводчики ломаются сразу же, как только профессор от приветственных слов переходит к терминологии курса и изложению учебного материала. Проект не пошел, так как риски и последствия от вероятного уголовного преследования превышали предусмотренные проектом деньги на подкуп должностных лиц при исполнении. Ректору надо было сначала стать депутатом, а это стоило еще больших денег. Так что эффективность проекта в пессимистическом варианте оказывалась отрицательная.
Россия. 2017. Кто виноват и что делать?
Ответ на вопрос «кто виноват» уже вырисовывался прямо на лбу у профессора Сонного. На вопрос «что делать» ответа пока не было. «Пересдать проваленный экзамен» – подумал он и вспомнил свою студенческую молодость.
Когда-то давно, тридцать лет назад, он, как и положено студентам – «от сессии до сессии живут студенты весело» – с удовольствием играл и пел джаз для комсомольцев после собраний, катался на горных лыжах, выходил на яхте по водохранилищам, пил и пел на вечеринках под гитару, много читал английскую классику в оригинале, чтобы не забыть язык. На своей кафедре его знали как хорошего программиста, составившего несколько интересных программ для распознавания изображений и управления роботами. В научной библиотеке ему улыбались как частому гостю, интересовавшемуся последними переводами научных статей зарубежных ученых.
В подвале лабораторного корпуса он программировал единственного тогда в вузе промышленного робота, заставлял его реагировать на команды и коды макроассемблера. В лаборатории технического зрения его наставник, уехавший в Калифорнию на заработки и так и не вернувшийся, учил его алгоритмам искусственного интеллекта и адаптивного управления. В аспирантуре его защиту приветствовал весь Ученый совет, вместе с вьетнамским аспирантом – будущим министром робототехники Вьетнама.
Потом случилась «геополитическая катастрофа». Развал СССР, потом «развор» России олигархами, потом отъем у олигархов силогархами. Как ни странно, весь этот ужас прошел, не задев его. Даже наоборот, после многочисленных зарубежных стажировок, Сонный стал ведущим специалистом по моделированию социально-экономических систем, бизнес-консультантом, преподавателем ведущих бизнес-школ России. Стал регулярно выезжать на иностранные морские и горнолыжные курорты. Купили машину, квартиру. Жизнь стала налаживаться. Потом кризис 2008-2009 резко уменьшил клиентов по консалтингу, но преподавание пошло в гору. Не было ни дня свободного времени – все заполнили занятия, рекордные нарушения Трудового Кодекса по недельной нагрузке в два раза – до 80 часов вызывали рекордные отчеты по НДФЛ в налоговую. Наверное, он был лучшим налогоплательщиком района после руководства местных госкомпаний и учреждений. Так было до декабря 2013 года.

