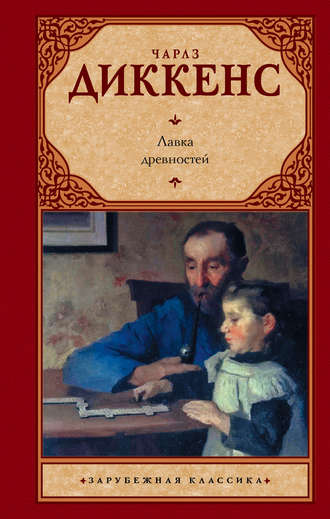
Полная версия
Лавка древностей
– Прежде чем покинуть чертог, сияющий огнями, и упоенную веселием толпу, я позволю себе, сэр, сделать одно мимолетное замечание. Я пришел сюда в полной уверенности, что старичок благоволит…
– Продолжайте, сэр, – сказал мистер Квилп, так как оратор вдруг запнулся.
– Вдохновленный этой мыслью, сэр, вдохновленный чувствами, отсюда проистекающими, и зная также, что ссоры, свары и споры не способствуют раскрытию сердец и умиротворению противников, я, как друг семьи, взял на себя смелость предложить один ход, который при данных обстоятельствах является наилучшим. Разрешите шепнуть вам одно словечко, сэр?
Не дожидаясь разрешения, Свивеллер подошел к карлику вплотную, оперся локтем на его плечо, нагнулся к самому его уху и сказал так громогласно, что все услышали:
– Мой совет старику – раскрыть кошель.
– Что? – переспросил Квилп.
– Раскрыть кошель, сэр, кошель! – ответил мистер Свивеллер, похлопывая себя по карману. – Чувствуете, сэр?
Карлик кивнул, мистер Свивеллер отступил назад и тоже кивнул, потом отступил еще на шаг, опять кивнул – и так далее, в той же последовательности. Достигнув таким образом порога, он оглушительно кашлянул, чтобы привлечь внимание карлика и лишний раз воспользоваться возможностью изобразить средствами пантомимы свое полное доверие к нему, а также намекнуть на желательность соблюдения строжайшей тайны. Когда же эта немая сцена, необходимая для передачи его мыслей, была закончена, он последовал за своим приятелем и мгновенно исчез за дверью.
– Гм! – хмыкнул карлик, сердито передернув плечами. – Вот они, родственнички! Я, слава Богу, от своих отделался. И вам тоже советую, – добавил он, поворачиваясь к старику. – Да только вы тряпка, и разума у вас не больше, чем у тряпки!
– Что вы от меня хотите! – в бессильном отчаянии воскликнул антиквар. – Вам легко так рассуждать, легко издеваться надо мной. Что вы от меня хотите?
– А знаете, что бы сделал на вашем месте я? – спросил карлик.
– Что-нибудь страшное, наверно.
– Правильно! – Чрезвычайно польщенный таким комплиментом, мистер Квилп с дьявольской усмешкой потер свои грязные руки. – Справьтесь у миссис Квилп, у очаровательной миссис Квилп, покорной, скромной, преданной миссис Квилп. Да, кстати! Я оставил ее совсем одну, она, верно, ждет меня не дождется, просто места себе не находит. Она всегда так – стоит только мне уйти из дому. Правда, моя миссис Квилп никогда в этом не признается, пока я не разрешу ей говорить со мной по душам и пообещаю не сердиться. О-о, она у меня вышколенная!
Уродливый карлик с огромной головой на маленьком туловище стал совсем страшен, когда он начал медленно, медленно потирать руки, – а казалось бы, что могло быть невиннее этого жеста! – потом насупил свои мохнатые брови, выпятил подбородок и так закатил к потолку глаза, пряча сверкавшее в них злорадство, что эту ужимку охотно перенял бы у него любой бес.
– Вот, – сказал он, сунув руку за пазуху и боком подступая к старику. – Сам принес для верности. Ведь как-никак – золото. У Нелли в сумочке они, пожалуй, не поместились бы, да и тяжело. Впрочем, ей надо привыкать, а, любезнейший? Когда вы помрете, она будет носить в этой сумочке немалые ноши.
– Дай Бог, чтобы ваши слова сбылись! Все мои надежды только на это! – почти со стоном проговорил старик.
– Надежды! – повторил карлик и нагнулся к самому его уху: – Хотел бы я знать, любезнейший, куда вы вкладываете все эти деньги? Да разве вас перехитришь! Очень уж вы бережете свою тайну.
– Мою тайну? – пробормотал старик, растерянно поводя глазами. – Да, правильно… я… я берегу ее… берегу как зеницу ока. – Он не добавил больше ни слова, взял деньги, усталым, безнадежным движением поднес ко лбу руку и медленно отошел от карлика.
Квилп пристальным взглядом проводил старика в заднюю комнату, увидел, как деньги были заперты в железную шкатулку на каминной полке, посидел еще несколько минут в раздумье и наконец собрался уходить, заявив, что ему надо торопиться, не то миссис Квилп встретит его истерическим припадком.
– Итак, любезнейший, – добавил он, – я направляю свои стопы домой и прошу вас передать мой поклон Нелли. Надеюсь, она больше не будет плутать по улицам, хотя этот неприятный случай принес мне такую неожиданную честь… – С этими словами карлик отвесил поклон в мою сторону, скосил на меня глаза, потом обвел все кругом пронзительным взглядом, от которого, казалось, не скроется никакой пустяк, никакая мелочь, и наконец удалился.
Я сам уже давно порывался уйти, но старик все удерживал меня и просил посидеть еще. Как только мы с ним остались вдвоем, он возобновил свои просьбы, вспоминая с благодарностью случай, сведший нас в первый раз, и я, охотно уступив ему, сел в кресло и притворился, будто с интересом рассматриваю редкостные миниатюры и старинные медали. Уговаривать меня пришлось недолго, ибо если первое посещение лавки пробудило мое любопытство, то теперешнее еще больше его разожгло.
Вскоре к нам присоединилась Нелл. Она принесла какое-то рукоделье и села за стол рядом с дедом. Мне было приятно видеть свежие цветы в этой комнате, птицу в клетке, прикрытую от света зеленой веточкой, мне было приятно дуновение чистоты и юности, которое проносилось по унылому старому дому и реяло над головкой Нелли. Но отнюдь не приятное, а скорее жуткое чувство охватывало меня, когда я переводил взгляд с прелестного, грациозного ребенка на согбенную спину и морщинистое, изнуренное лицо старика. Он будет слабеть, дряхлеть, – что же станет тогда с этой одинокой девочкой. А вдруг он умрет и она лишится даже такой опоры? Какая участь ждет ее впереди?
Старик вдруг тронул внучку за руку и сказал, почти отвечая на мои мысли:
– Я больше не буду унывать, Нелл. Счастье придет, обязательно придет! Я прошу его только для тебя, мне самому ничего не нужно. А иначе сколько бед падет на твою невинную головку! Оно должно улыбнуться нам, ведь его так добиваются, так зовут!
Девочка ласково посмотрела на деда, но ничего не сказала.
– Когда я думаю, – продолжал он, – о тех долгих годах – долгих для твоей юной жизни, что ты провела здесь со мной, о твоем унылом существовании… без сверстников, без ребяческих утех… об одиночестве, в котором ты росла, – мне иной раз кажется, что я жестоко обходился с тобой, Нелл.
– Дедушка! – с неподдельным изумлением воскликнула она.
– Не намеренно, нет, нет! – сказал старик. – Я всегда верил, что настанет день, когда ты сможешь наконец быть среди самых веселых, самых красивых и займешь место, которое уготовано только избранным. И я все еще жду этого, Нелл. Жду и буду ждать! Но вдруг ты останешься одна?.. Что я сделал, чтобы подготовить тебя к жизни? Ты совсем как вон та бедная птичка, и так же будешь брошена на произвол судьбы… Слышишь? Это Кит стучится. Пойди, Нелл, открой ему.
Девочка встала из-за стола, сделала несколько шагов, но вдруг остановилась, вернулась назад и бросилась деду на шею. Потом снова пошла к двери, но на этот раз быстрее, чтобы скрыть слезы, брызнувшие у нее из глаз.
– Одно словечко, сэр, – торопливо зашептал старик. – Мне как-то не по себе после нашего первого разговора с вами, но в свое оправдание я могу сказать только то, что все делается к лучшему, что отступать уже поздно – да и нельзя отступать – и что надежда не оставляет меня. Все это ради нее, сэр. Я сам не раз испытывал в жизни жестокую нужду и хочу уберечь ее от страданий, неразрывных с нуждой. Я хочу уберечь Нелл от тех бед, которые так рано свели в могилу ее мать – единственное мое дитя. Я оставлю своей внучке наследство, но не такое, что можно быстро истратить, промотать – нет! – оно навсегда охранит ее от лишений. Вы понимаете меня, сэр? Она получит не какие-нибудь жалкие гроши, а целое состояние!.. Шш!.. Больше я ничего не смогу вам сказать, ни сейчас, ни после… да вот и она.
Волнение, с которым он шептал эти слова, дрожь его пальцев, лежащих на моей руке, исступленный вид, широко открытые глаза, напряженно всматривающиеся мне в лицо, – все это поразило меня. То, что я видел и слышал здесь, – слышал даже от самого старика, – давало мне основания считать его богатым человеком. Значит, это один из тех жалких скупцов, которые, поставив себе в жизни единственную цель – наживу – и скопив огромные богатства, вечно терзаются мыслью о нищете, вечно одержимы страхом, как бы не потерпеть убытков и не разориться. Многое из того, что старик говорил раньше и что было тогда непонятно мне, подкрепляло мои опасения, и я окончательно причислил его к этому несчастному племени.
То была всего лишь догадка – для более основательного суждения у меня не оставалось времени, так как девочка вскоре вернулась в комнату и сейчас же села с Китом за урок письма, что, оказывается, было заведено у них два раза в неделю и доставляло ученику и учительнице огромное удовольствие. Очередной урок приходился на сегодняшний вечер. Чтобы передать, как долго понадобилось уговаривать Кита сесть за стол в присутствии незнакомого джентльмена, как его наконец усадили, как он загнул обшлага, расставил локти, уткнулся носом в тетрадку и страшным образом скосил на нее глаза, как, взяв перо, он немедленно начал сажать кляксу за кляксой и вымазался чернилами до корней волос, как, написав совершенно случайно правильную букву, он нечаянно стирал ее рукавом, пытаясь вывести вторую такую же, как при каждой очередной ошибке раздавался взрыв смеха девочки и не менее веселый хохот самого Кита и как, несмотря на подобные неудачи, наставница старалась преподать своему ученику трудную науку письма, а он с таким же рвением одолевал ее, – повторяю, чтобы передать все эти подробности, понадобилось бы слишком много времени и места, гораздо больше, чем они того заслуживают. Будет вполне достаточно, если я скажу, что урок был дан, что вечер миновал и следом за ним наступила ночь, что к ночи старик опять стал выражать явные признаки беспокойства и нетерпения, что он ушел из дому тайком в тот же час, как и прежде, и что девочка опять осталась одна в этих мрачных стенах.
А теперь, доведя рассказ до этого места от своего имени и познакомив читателя с моими героями, я в интересах дальнейшего повествования отстранюсь от него и предоставлю тем, кто играет в нем главные и сколько-нибудь существенные роли, действовать и говорить самим за себя.
Глава IV
Мистер и миссис Квилп проживали на Тауэр-Хилле, и в своей скромной келье на Тауэр-Хилле миссис Квилп коротала часы разлуки, изнывая от тоски по супругу, покинувшему ее ради той деловой операции, которая, как мы уже видели, привела его в лавку древностей.
Определить род занятий или ремесло мистера Квилпа было бы трудно, хотя его интересы отличались крайней разносторонностью и дел ему всегда хватало. Он собирал дань в виде квартирной платы с целой армии обитателей трущоб на грязных улочках в грязных закоулках возле набережной, ссужал деньгами матросов и младших офицеров торговых судов, участвовал в рискованных операциях многих штурманов Ост-Индской компании, курил контрабандные сигары под самым носом у таможни и чуть ли не ежедневно встречался на бирже с господами в цилиндрах и в кургузых пиджачках. На правом берегу Темзы ютился небольшой, кишащий крысами и весьма мрачный двор, именовавшийся «Пристанью Квилпа», где взгляду представлялось следующее: дощатая контора, покосившаяся на один бок, словно ее сбросили сюда с облаков и она зарылась в землю, ржавые лапы якорей, несколько чугунных колец, гнилые доски и груды побитой, покореженной листовой меди. На «Пристани Квилпа» Дэниел Квилп выступал в роли подрядчика по слому старых кораблей, но, судя по всему, он был либо совсем мелкой сошкой в этой области, либо ломал корабли на совсем мелкие части. Нельзя также сказать, чтобы здесь кипела жизнь и замечались следы бурной деятельности, ибо единственным обитателем этих мест был мальчишка в парусиновой куртке (существо, по-видимому, земноводное), весь круг занятий которого заключался в том, что он либо сидел на сваях и бросал камни в тину во время отлива, либо стоял, засунув руки в карманы, и с полной безучастностью взирал на оживленную в часы прилива реку.
В доме карлика на Тауэр-Хилле, кроме помещения, занимаемого им самим и миссис Квилп, имелась крохотная каморка, отведенная ее матушке, которая проживала совместно с супружеской четой и находилась в состоянии непрекращающейся войны с Дэниелом, что не мешало ей сильно его побаиваться. Да и вообще это чудовище Квилп повергал в трепет почти всех, кто сталкивался с ним в повседневной жизни, действуя на окружающих то ли своим уродством, то ли крутостью нрава, то ли коварством, – чем именно, в конце концов не так уж важно. Но никого не держал он в таком полном подчинении, как миссис Квилп – хорошенькую, голубоглазую, бессловесную женщину, которая, связавшись с ним узами брака в явном ослеплении чувств (что случается не так уж редко), каждодневно и полной мерой расплачивалась теперь за содеянное ею безумие.
Мы сказали, что миссис Квилп коротала часы разлуки в своей скромной келье на Тауэр-Хилле. Коротать-то она коротала, но только не одна, ибо, кроме ее почтенной матушки, о которой уже упоминалось раньше, компанию ей составляли несколько соседок, по странной случайности (а также по взаимному сговору) явившихся в гости одна за другой как раз к чаю. Обстоятельства встречи вполне благоприятствовали беседе, в комнате стояла приятная полутьма и прохлада; цветы на раскрытом настежь окне, не пропуская с улицы пыли, в то же время заслоняли от глаз древний Тауэр, и дамы были не прочь поболтать и поблагодушествовать за чайным столом, чему немало способствовали такие соблазнительные вещи, как сливочное масло, мягкие булочки, креветки и кресс-салат.
Вполне естественно, что в такой компании и в такой обстановке разговор зашел о склонности мужчин тиранствовать над слабым полом и о вытекающей отсюда необходимости для слабого пола оказывать отпор их тиранству и отстаивать свои права и свое достоинство. Это было, естественно, по следующим четырем причинам: во-первых, миссис Квилп, как женщину молодую и явно изнывающую под пятой супруга, следовало подстрекнуть к бунту; во-вторых, родительница миссис Квилп была известна строптивостью нрава (качеством весьма похвальным) и стремлением всячески противодействовать мужскому самовластию; в-третьих, каждой гостье хотелось выказать свое превосходство в этом смысле перед всеми другими существами одного с нею пола; и, в-четвертых, привыкнув сплетничать друг про дружку с глазу на глаз, дамы не могли предаваться этому занятию в тесном приятельском кружке, и, следовательно, им ничего не оставалось, как ополчиться на общего врага.
Учтя все это, одна из присутствующих – дебелая матрона – первая открыла обмен мнениями, осведомившись с весьма озабоченным и участливым видом, как себя чувствует мистер Квилп, на что матушка жены мистера Квилпа отрезала:
– Прекрасно! А что ему сделается? Худой траве все впрок! Дамы дружно вздохнули, сокрушенно покачали головой и так посмотрели на миссис Квилп, словно перед ними сидела мученица.
– Ах! – воскликнула все та же дебелая матрона. – Хоть бы вы ей что-нибудь присоветовали, миссис Джинивин! (Следует отметить, что в девичестве миссис Квилп была мисс Джинивин.) Ведь все зависит от того, как женщина себя поставит. Впрочем, что зря говорить, сударыня! Вам это лучше всех известно.
– Еще бы неизвестно! – ответила миссис Джинивин. – Да если б мой покойный муж, а ее дражайший родитель, осмелился сказать мне хоть одно непочтительное слово, я бы… – И почтенная старушка с яростью свернула шейку креветке, видимо заменяя недосказанное этим красноречивым действием. В таком смысле оно было понято, и ее собеседница не замедлила подхватить с величайшим воодушевлением:
– Мы с вами будто сговорились, сударыня! Я бы сама сделала то же самое!
– Да вам-то какая нужда! – сказала миссис Джинивин. – Вы можете обойтись и без этого. Я, слава Богу, тоже обходилась.
– Достоинство свое надо блюсти, тогда и нужды такой не будет, – провозгласила дебелая матрона.
– Слышишь, Бетси? – наставительным тоном обратилась к дочери миссис Джинивин. – Сколько раз я твердила тебе то же самое, заклинала тебя, чуть ли не на колени перед тобой становилась!
Бедная миссис Квилп, беспомощно взиравшая на сочувственные лица гостей, вспыхнула, улыбнулась и недоверчиво покачала головой. Это немедленно послужило сигналом ко всеобщему возмущению. Начавшись с невнятного бормотанья, оно мало-помалу перешло в крик, причем все кричали хором, уверяя миссис Квилп, что, будучи женщиной молодой, она не имеет права спорить с теми, кто умудрен опытом; что нехорошо пренебрегать советами людей, пекущихся только о ее благе; что такое поведение граничит с черной неблагодарностью; что вольно ей не уважать самое себя, но пусть подумает о других женщинах; что, если она откажется уважать других женщин, настанет время, когда другие женщины откажутся уважать ее, о чем ей придется очень и очень пожалеть. Облегчив таким образом душу, дамы с новыми силами набросились на крепкий чай, мягкие булочки, сливочное масло, креветки и кресс-салат и заявили, что от расстройства чувств им просто кусок в горло не идет.
– Это все одни разговоры, – простодушно сказала миссис Квилп, – а случись мне завтра умереть, Квилп женится на ком захочет, и ни одна женщина ему не откажет – вот не откажет и не откажет!
Ее слова были встречены негодующими возгласами. Женится на ком захочет! Посмел бы он только присвататься к кому-нибудь из них! Посмел бы только заикнуться об этом! Одна дама (вдова) твердо заявила, что она зарезала бы его, если б он решился хоть намекнуть ей о своих намерениях.
– Ну и хорошо, – сказала миссис Квилп, покачивая головой, – а все-таки это одни разговоры, и я знаю, прекрасно знаю: Квилп такой, что стоит только ему захотеть, и ни одна из вас перед ним не устоит, даже самая красивая, если она будет свободна, а я умру, и он начнет за ней ухаживать. Вот!
Дамы горделиво вскинули головы, точно говоря: «Вы, конечно, имеете в виду меня. Ну что ж, пусть попробует – посмотрим!» И тем не менее все они по какой-то им одним ведомой причине взъелись на вдову и стали шептать, каждая на ухо своей соседке: пусть, дескать, эта вдова не воображает, будто намек относится к ней! Подумайте, какая вертихвостка!
– Это все правда, – продолжала миссис Квилп. – Спросите хоть маму. Она сама так говорила до того, как мы поженились. Ведь говорили, мама?
Такой вопрос поставил почтенную старушку в весьма затруднительное положение, ибо в свое время она немало потрудилась, чтобы ее дочка стала миссис Квилп; кроме того, ей не хотелось ронять честь семьи, внушая посторонним мысль, будто бы у них в доме обрадовались жениху, на которого никто больше не позарился. С другой стороны, преувеличивать неотразимость зятя тоже не следовало, так как это умалило бы самую идею бунта, которой она отдавала все свои силы. Раздираемая такими противоречивыми соображениями, миссис Джинивин признала за Квилпом уменье подольститься, но в праве властвовать над кем-либо отказала ему наотрез и, весьма кстати ввернув комплимент дебелой матроне, обратила беседу на прежнюю тему.
– Миссис Джордж так права, так права! – воскликнула она. – Если бы только женщины умели блюсти свое достоинство! Но в том-то и беда, что Бетси этого совершенно не умеет!
– Допустить, чтобы мужчина так мною помыкал, как Квилп ею помыкает! – подхватила миссис Джордж. – Трепетать перед мужчиной, как она перед ним трепещет! Да я… да я лучше руки бы на себя наложила, а в письме написала бы, что это он меня уморил.
Все громогласно одобрили ее слова, после чего заговорила другая дама, с улицы Майнорис.
– Что ж, может быть, мистер Квилп и очень приятный мужчина, – начала она. – Да какие тут могут быть споры, когда сама миссис Квилп так говорит и миссис Джинивин так говорит, – ведь им-то лучше знать. Но будь он покрасивее да помоложе, ему еще можно было бы найти оправдание. Супруга же его молода, красива, и к тому же она женщина, а этим все сказано!
Последнее замечание, произнесенное с необычайным подъемом, исторгло сочувственный отклик из уст слушательниц, и, подбодренная этим, дама с улицы Майнорис заявила далее, что если такой муж грубиян и плохо обращается с такой женой, то…
– Да какое там «если»! – Матушка миссис Квилп поставила чашку на стол и стряхнула с колен крошки, видимо готовясь сообщить нечто весьма важное. – Да какое там «если», когда второго такого тирана свет не видывал! Она сама не своя стала, дрожит от каждого его взгляда, от каждого его слова, пикнуть при нем не смеет! Он ее насмерть запугал!
Несмотря на то что наши чаевницы были немало наслышаны об этом обстоятельстве и уже год судили и рядили о нем за чаепитиями во всех соседних домах, стоило им только услышать официальное сообщение миссис Джинивин, как все они затараторили разом, стараясь перещеголять одна другую в пылкости чувств и красноречии. Людям рта не зажмешь, провозгласила миссис Джордж, и люди не раз твердили ей обо всем этом, да вот и присутствующая здесь миссис Саймоне сама ей это рассказывала раз двадцать, на что она всякий раз неизменно отвечала: «Нет, Генриетта Саймонс, пока я не увижу этого собственными глазами и не услышу собственными ушами, не поверю, ни за что не поверю». Миссис Саймонс подтвердила свидетельство миссис Джордж и подкрепила его собственными, столь же неопровержимыми показаниями. Дама с улицы Майнорис поведала обществу, какому курсу леченья она подвергла своего мужа, который спустя месяц после свадьбы обнаружил повадки тигра, но был укрощен и превратился в совершеннейшего ягненка. Другая соседка тоже рассказала о своей борьбе, завершившейся полной победой после того, как она водворила в дом матушку и двух теток и проплакала шесть недель подряд, не осушая глаз ни днем, ни ночью. Третья, не найдя в общем гаме более подходящей слушательницы, насела на молодую незамужнюю женщину, оказавшуюся среди гостей, и стала заклинать ее ради ее же собственного душевного покоя и счастья принять все это к сведению и, почерпнув урок из безволия миссис Квилп, посвятить себя отныне усмирению и укрощению мятежного духа мужчин. Шум за столом достиг предела, дамы старались перекричать одна другую, как вдруг миссис Джинивин побледнела и стала исподтишка грозить гостьям пальцем, призывая их к молчанию. Тогда и только тогда они заметили в комнате причину и виновника всего этого волнения – самого Дэниела Квилпа, который пристально взирал на них и с величайшей сосредоточенностью слушал их разговоры.
– Продолжайте, сударыни, продолжайте! – сказал Дэниел. – Миссис Квилп, уж вы бы, кстати, пригласили дам отужинать, подали бы им омаров да еще чего-нибудь, что полегче и повкуснее.
– Я… я не звала их к чаю, Квилп, – пролепетала его жена. – Это получилось совершенно случайно.
– Тем лучше, миссис Квилп. Что может быть приятнее таких случайных вечеринок! – продолжал карлик, яростно потирая руки, словно он задался целью скатать из покрывавшей их грязи пули для духового ружья. – Как! Неужели вы уходите, сударыни? Неужели вы уходите?
Его очаровательные противницы только вскинули головки и принялись спешно разыскивать свои чепцы и шали, а словесную перепалку с ним предоставили миссис Джинивин, которая, очутившись в роли поборницы женских прав, сделала слабую попытку постоять за себя.
– А что ж тут такого, Квилп? – огрызнулась она. – Вот возьмут и останутся к ужину, если моя дочь захочет их пригласить!
– Разумеется! – воскликнул Дэниел. – Что ж тут такого – возьмут и останутся!
– Уж будто и поужинать людям нельзя! Что же в этом неприличного или зазорного? – продолжала миссис Джинивин.
– Решительно ничего, – ответил карлик. – Откуда у вас такие мысли? А уж для здоровья как хорошо! Особенно если обойтись без салата из омаров и без креветок, которые, как я слышал, вызывают засорение желудка.
– Вы, разумеется, не захотите, чтобы с вашей женой приключилась такая болезнь или какая-нибудь другая неприятность? – не унималась миссис Джинивин.
– Да ни за какие блага в мире! – воскликнул карлик и ухмыльнулся. – Даже если мне посулят такое благо, как двадцать тещ. А я был бы так счастлив с ними!
– Да, мистер Квилп! Моя дочь приходится вам супругой, – продолжала старушка с язвительным смешком, который должен был подчеркнуть, что карлику полезно лишний раз напомнить об этом обстоятельстве. – Она приходится вам законной супругой!
– Справедливо! Совершенно справедливо! – согласился он.
– И надеюсь, Квилп, она вправе поступать по собственному усмотрению, – продолжала миссис Джинивин, дрожа всем телом не то от гнева, не то от затаенного страха перед своим зловредным зятем.
– Я тоже надеюсь, – ответил он. – Да разве вы сами этого не знаете? Так-таки и не знаете, миссис Джинивин?
– Знаю, Квилп, и она воспользовалась бы своим правом, если бы придерживалась моих взглядов.
– Почему же, голубушка, вы не придерживаетесь взглядов вашей матушки? – сказал карлик, круто поворачиваясь к жене. – Почему, голубушка, вы не берете с нее примера? Ведь она служит украшением своего пола, – ваш батюшка, наверно, не уставал твердить это изо дня в день всю свою жизнь!









