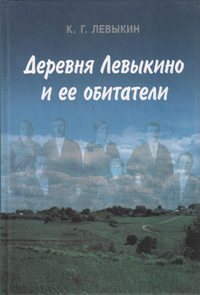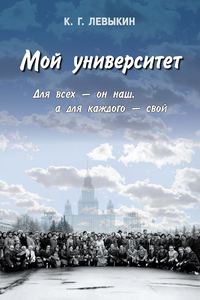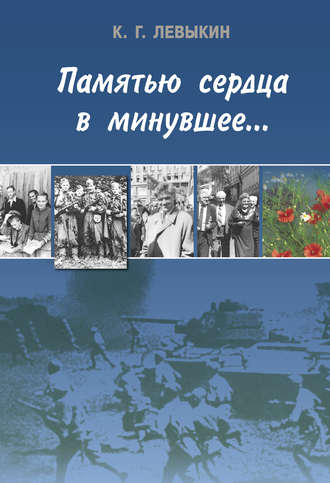
Полная версия
Памятью сердца в минувшее…
В квартире Ивановых в Чулковском дворе мы прожили почти три года. В 1933 году Отец получил комнату в фабричном общежитии от чулочной фабрики имени Ногина, где он работал, за недалекой Крестовской заставой. Наша семья наконец обрела свое пристанище в виде одной комнаты в девятнадцать квадратных метров на шесть человек. Мои старшие братья к этому времени вернулись в Москву после отработанного по окончании техникума срока по распределению. Но связь с Чулковкой не была прервана сразу. Там оставались жить наши родственники Монахтины и Левыкины. Целый год каждый день я ездил на Третью Мещанскую в школу номер 15, в первый класс которой я пошел в 1932 году.
* * *День окончания моего школьного детства я отчетливо помню. А вот день его начала запомнился нервной суетой Мамы и моими переживаниями по поводу записи в школу. В лето 1932 года мы, то есть я, моя сестра и Мама, возвратились из деревни, кажется, 30 или даже 31 августа. Трудно оказалось нам выехать несколькими днями раньше. Что-то плохо было тогда с поездами. Где-то произошло крушение. Поезда пошли с перерывами, не по графику. Они были переполнены возвращающимися с мест отдыха к началу учебного года. Впрочем, ничего нового в этой ситуации не было: так тогда случалось часто, да и теперь происходит что-то похожее. Нам с Мамой следовало бы собраться к отъезду на два-три дня пораньше. Но мы этого не сделали, и 1 сентября 1932 года я в школу не попал.
Вероятно, и тогда, как и сейчас, это событие отмечалось каким-то ритуалом. Во всяком случае, родителям и детям того года этот день запомнился заботами. Наверное, дети-первоклассники шли в школу с новыми сумками-портфелями, в новой чистой одежде. Не уверен, что кто-нибудь из них шел с цветами. По-моему, цветы тогда не приносили, как сейчас. Но уверен, что у входа в школу детей встречали директор и учителя, и ребятишек строили в линейки и разводили по классам. Потом этот порядок я наблюдал каждый год. Но 1 сентября 1932 года я этой торжественной суеты не пережил: в тот день мы с Мамой бегали из школы в школу, и меня нигде не принимали, так как школы были переполнены, и, как лишних, нас отказывались принимать. Несколько дней подряд Мама с утра брала меня за руку и начинались наши хождения по ближним и дальним улицам, из двери в дверь, из кабинета в кабинет. Тогда-то у меня и сложилось представление о строгих директорах, и долгое время после этого я их опасался. Мама просила, упрашивала, объясняла причину опоздания, но все они оставались строго и равнодушно непреклонными; мне казалось, что моя судьба была им безразлична. Школы были переполнены.
Опоздавших некуда было сажать. Наконец, мы пришли в какой-то особый дом, где было много кабинетов, в которые сразу нельзя было заходить. Случалось, мы приоткрывали дверь в один из них, а оттуда раздавался недружелюбный голос. Нас посылали в другую дверь, а от нее к следующей. Но в одной комнате все-таки оказался добрый и внимательный человек, он спокойно, глядя поверх очков на Маму и на меня, выслушал наши объяснения, а потом спросил, где мы живем. Услышав наш адрес, он взял листок, что-то написал и отдал Маме, а мне сказал, чтобы я хорошо учился. Других напутствий я больше ни от кого тогда не услышал. А на следующее утро Мама повела меня в школу, которая находилась рядом с нашей Чулковкой. Выйдешь из ее ворот и сразу же направо. Это была школа № 15 Дзержинского отдела народного образования (в аббревиатуре – ДОНО).
Мы пришли в приемную директора. Тогда им был Георгий Михайлович Орлов – известный в нашей стране педагог. В этом качестве он стал известен много лет спустя, а в то школьное утро мне не пришлось его увидеть. Нас принял другой, тоже известный среди московских учителей человек – заведующий учебной частью Антон Павлович Туш. Он был толстый, лысый, очень подвижный и неожиданно добрый человек. Я тогда удивился его доброму и веселому взгляду и долго потом недоумевал, почему же он сразу не принял меня в школу? Мама подала ему бумажку от доброго дяди из вчерашнего казенного дома. Он прочитал ее, а потом взял меня за руку и повел в класс. Там уже шел урок, и учительница что-то писала мелом на доске. Она мне не понравилась. Вид у нее был странный, я бы сказал, не очень опрятный. Юбка висела на ней наперекосяк. Кофта, несвежего вида, тоже как-то неудобно свисала с ее плеч. Роста она была невысокого. Помню еще ее совсем не городское лицо, простоватое и красное, и беспорядочную прическу из будто бы немытых волос.
Антон Павлович что-то ей сказал. Она кивнула в ответ, взяла меня за руку и посадила третьим за парту, где-то в середине класса. Потом она вернулась к доске и стала опять писать и что-то объяснять. Я ничего не понимал, и долго потом на уроках я никак не мог догнать одноклассников в умении понимать и решать. Читать и писать я научился еще до школы, но тут возникла какая-то оторопь. За партой сидеть было тесно, писать на ней было неудобно. Палочки и крючки, а потом и буквы в моей тетради получались некрасивыми. А когда стали писать чернилами, появились кляксы, которые я пытался стереть пальцем. От неудач в школу мне ходить расхотелось. Наверное, тогда я был обречен стать бесперспективным для учителей удочником, т. е. троечником. Конечно, таких, как я, в классе было еще несколько человек. С тех пор я почувствовал традиционное школьное неравенство. Из общей среды сразу выделилась группа отличников и благополучных и группа незадачливых, отстающих, ленивых и, соответственно, недисциплинированных учеников. Группа эта складывалась по различным причинам и поводам. В ней оказывались отнюдь не только нерадивые и недисциплинированные. Было и так, что в число бесперспективных попадали и ученики, не лишенные способностей и даже таланта. Но их почему-то не замечали учителя, однажды определив их туда по каким-то случайным фактам неудач. Они попадали в этот общий серый разряд. Я замечал эту учительскую несправедливость не только на себе. Мне всегда хотелось быть отмеченным похвалой. Я старался. Но учитель будто бы мне не верил и редко ставил мне оценку выше «уд.».
Много лет спустя, когда уже мой младший сын пошел учиться в ту же школу, в которой окончилось мое детство, я снова столкнулся со знакомой мне профессионально-несправедливой самоуверенностью учителя в оценке способностей и возможностей доверенного ему ребенка. Помню маленькую, симпатичную учительницу с грузинской фамилией – классного руководителя моего Алексея. Ее нельзя было упрекнуть в невнимательности к детям, в незнании своего предмета. Она уже имела опыт педагогической работы. И, к сожалению, уже успела унаследовать профессиональную безапелляционность оценок, свойственную учителям. Как-то однажды на родительском собрании она мне спокойно сказала: «Ваш Алеша очень хороший мальчик. Он очень старается. Но выше тройки он не поднимется». Почему она так уверенно охарактеризовала ребенка, который только-только стал делать самостоятельные шаги в учебе? Она обязана была научить его преодолевать непонятное и выполнять все ее задания. Вместо этого она безоговорочно определила такую серую перспективу «хорошему мальчику Алеше». Я не стал тогда спорить с ней. Но сам сделал все, чтобы получить от сына совсем другой результат. И мне это удалось. Сам же я из разряда непутевых троечников сумел выйти в прилично успевающие с помощью других учителей, которые сумели по-иному оценить мои возможности. Правда, меня никто из учителей не приговаривал так сурово, на всю жизнь. В сентябре 1932 года я пошел учиться в 15-ю школу ДОНО, и все у меня было впереди.
Имя, отчество и фамилию своей первой учительницы я не помню. Мне даже кажется, что я не успел этого узнать потому, что учила она нас недолго. И все же образ ее мне запомнился довольно отчетливо. Какая-то она была неустроенная, неухоженная и растрепанная. Однажды она пришла к нам домой, чтобы познакомиться с моими родителями. Я помню, как Мама угощала ее чаем. Они долго разговаривали, и вдруг выяснилось, что учительнице негде было ночевать. Просто она не имела постоянного места жительства. По тому, как Мама ей сочувствовала, я понял, что ей пришлось покинуть родные места по какой-то несправедливой причине. Многим в те годы пришлось покидать и родные края, и родные очаги, и родителей своих. В тот вечер учительница осталась ночевать в нашей маленькой комнатке в квартире Ивановых на Пулковском дворе. Как сейчас помню, Мама устроила ее спать на полу. И еще мне запомнился серый прорезиненный плащ, в котором ходила учительница и которым тогда она укрылась вместо одеяла. Утром она поспешно собралась и ушла. Где уж тут было заниматься туалетом? Недолго она учила наш класс. Видимо, не нашла она тогда приюта в наших Пулковских окрестностях, и судьба повела ее дальше на его поиски. Мамина женская жалость к ней тогда передалась и мне, и это чувство мне памятно до сих пор. Может быть поэтому я не забыл мою первую учительницу, хотя от ее уроков воспоминаний почти не осталось. Остались в памяти сочувствие и жалость к ней. Какая беда обрекла ее на скитания? Нашла ли она свой приют в тогдашней сложной жизни? Помог ли ей кто-нибудь, как моя Мама?
Мои первые результаты в учебе оценивались тогда на уровне «удочки». Знания в школе в те начальные тридцатые оценивались отметками: «Очень хорошо» (очхор.), «Хорошо» (хор.), «Удовлетворительно» (уд.), «Плохо» (пл.) и «Очень плохо» (очплох.). Иногда я получал и «хоры» – по чтению и арифметике. А по письму выше «уд.» было очень редко. Одолевали не только ошибки, но больше всего – кляксы. Пальцем я, как и другие мои товарищи-мазилы, стирал их до дырок на тетрадном листе. И вид у моих тетрадок тоже был неприличный. Почему-то все время загибались в трубочку уголки обложек. Спустя много лет, глядя на тетрадки моих сыновей, я вспоминал себя. Они тоже, как и я, очень хотели быть примерными и аккуратными. Но их стараний хватало на первые тетрадные странички. А потом начинались те же стирания огрехов пальцем. Клякс у них не было. Чернилами в школе уже не пользовались. Но типичные ошибки оставались. В моих отметках «плохо» и «очплохо» были редкими, их почти не было. Но «удочки» меня донимали. Я очень хотел от них избавиться, но до пятого класса мне это не удавалось. Однажды нашим новым учителем стал Владимир Иванович – строгий, неприступно строгий молодой человек. Однако мы все его сразу очень полюбили. Наверное, тогда он был не только молод, но и холост. Думаю, что профессию он выбрал по призванию, потому что очень много времени уделял нам и на уроке, и после уроков. Он водил нас на огороды Екатерининской больницы на уроки природоведения, а на Екатерининский бульвар водил смотреть верблюда и пони.
В одном из затемненных классов с помощью волшебного фонаря он показывал нам картинки про бедных негров, которые жили в стране со странным и непонятным названием САСШ. С ним мы разучивали к праздникам стихи и песенки:
Мы веселые ребята.Раз, два!Наше имя октябрята.Раз, два!Или:
Возьмем винтовки новые,На штык – флажки.И с песнею веселоюПойдем в полки.Стихи я тоже заучивал с трудом. Легче запоминалось:
Белый снег, пушистый,В воздухе кружитсяИ на землю тихоПадает, ложится.Но однажды было задано такое стихотворение, которое я заучивал с большим напряжением и, заучив, никак не мог понять его содержание. Оно было про Туркестано-Сибирскую железную дорогу. Я заучивал с помощью старшего брата, который требовал, чтобы я читал с «выражением». Очень упорная была эта работа, «выражение» не получалось. Брат требовал бесконечных повторений, часто прибегая совсем не к педагогическим приемам. На всю жизнь я запомнил первую строчку этих индустриально-аграрных, железнодорожных стихов:
В Туркестане хлопок растет,А в Сибири растет пшеница.Слово «пшеница» я упорно произносил на нашем, деревенском наречии: «пашаница». Так оно удобнее рифмовалось и «выражалось». Брат нервничал, но все-таки ему удалось довести до моего сознания главную идею стихотворения – значение только что построенной Туркестано-Сибирской железной дороги в укреплении дружбы народов и в создании «единого народно-хозяйственного комплекса». Тут я, конечно, прибегаю к терминологии более позднего времени, так как не помню тех слов и определений, которыми пользовался мой домашний наставник – старший брат. Зато таблицу умножения я выучил очень легко и быстро. Не всем моим братьям по «удочкам» это удавалось сделать с первого захода. А у меня от зубов отскакивало: «Пятью пять – двадцать пять, а семью семь – сорок девять».
По арифметике у меня был «хор.». И по чтению мне было легко. Еще до школы я умел читать не по слогам. Книгу для чтения я одолевал без труда. Но однажды случилась беда. Одну страницу книги я целиком залил чернилами. Много из-за этого пришлось мне пережить. Во-первых, я боялся, что это увидит Владимир Иванович, и я даже не представлял, какое последует наказание. Я старался, чтобы эту страницу не увидела соседка по парте и не наябедничала. Нервы мои были на пределе, когда приходилось раскрывать этот учебник. А когда подошла пора читать текст на измазанной, залитой чернилами странице, то я заранее, по учебнику друга, выучил страничку наизусть и читал ее по вызову учителя громко и бегло, делая вид, что пальцем вожу по тексту. Тайны моей так никто не узнал. В конце учебного года я сдал эту книжку, и никто не заметил огромной чернильной кляксы. Но испытанную тогда тревогу и чувство ответственности я помню и сейчас. Может быть, с тех пор в сознание мое, так же как и в сознание моих сверстников, по другим поводам и причинам навсегда внедрилось чувство общественной ответственности, которое стало неотъемлемым качеством большинства рядовых граждан нашего советского государства. Я помню, что и тогда, в неудачливую пору, я хотел быть хорошим учеником. Мне очень хотелось, чтобы за это меня похвалил Владимир Иванович. Не скажу, что он обделял меня своим вниманием, но «хорошистом» у него я так и не стал. Тогда большую благосклонность я решил завоевать у него другим способом. Правда, это было связано отнюдь не с желанием получить более высокую отметку. Причина была другая. Иногда в школе по классам распределяли ордера на детский ширпотреб, главным образом обувь и одежду. Это были льготные ордера детям из нуждающихся семей. Я не входил в эту категорию. Но мне очень хотелось получить ордер и порадовать им Маму. Но Владимир Иванович раздавал ордера, не принимая меня ни в какой расчет. И тогда! И тогда я решил подарить ему наше деревенское огромное антоновское яблоко, которое Мама давала мне с собой в школу. Реакция Владимира Ивановича на этот мой поступок была в моем понимании жестокой: он очень строго поглядел на меня, и я навсегда расстался с мечтой о персональной благосклонности с его стороны.
В пятнадцатой школе ДОНО на Третьей Мещанской я проучился два года – в первом и втором классах. В 1933 году мы переехали на новое место жительства за Крестовскую заставу, в дальнюю окраину Москвы, которая в то время еще не утратила подмосковного сельского вида. Вблизи нашего дома стояли две маленькие школы, расположенные в деревянных двухэтажных домах. Поступить в них не было никакой возможности, поскольку они были переполнены. И целый год, уже учась во втором классе, я каждый день, во вторую смену, ездил на трамвае в свою пятнадцатую на Третью Мещанскую. Теперь, в нынешние, конца XX века, годы тоже часто можно видеть малолеток с ранцами, кочующих на метро и в троллейбусах с одного конца Москвы на другой. Но теперь это происходит по другой причине. Родители выбирают для детей особые, престижные школы, заботясь об обеспечении им более высокого уровня образования. Я скептически отношусь к этой родительской блажи. Мои дети учились в обычной школе, в той же, где учился и я. Зато она была рядом с домом. Я-то знаю, какими издержками могут закончиться ежедневные путешествия детей по Москве. До сих пор с запоздалым, тяжелым чувством личной опасности я вспоминаю свои поездки на трамвае в школу и, особенно по вечерам, из школы. Ехать-то надо было довольно долго и далеко.
* * *Квартиру-комнату в деревянном, собранном из дощатых щитов, доме, за недалекой Крестовской заставой родители восприняли как наконец выпавшее нам счастье. А я загоревал. Не хотелось мне уезжать с Чулковского двора, от друзей, от нашего дворового быта, к которому я уже успел привыкнуть. Я загоревал еще больше после того, как в первый раз с Мамой и сестрой побывал на месте нового жительства. Мы долго туда ехали на трамвае. То ли от неохоты туда ехать, то ли от давки в переполненном вагоне, но дорога в тот раз показалась мне очень долгой. Да и трамваи тогда по качающимся рельсам ехали медленно. А за Крестовскими башнями» на узком мосту» встречные трамваи разъезжались по одному пути. И по обеим концам» перед мостом, собирались вереницами в очередь, ожидая, когда пройдут встречные. Этот старый мост сохранился и по сей день. А вот башен Крестовских водонапорных нет с 1939 года. Тогда их взорвали и убрали с проездного пути на новый Крестовский мост-путепровод. Сейчас транспортный поток с бывшей Первой Мещанской после последнего светофора у Рижского вокзала быстро выскакивает на широкую, просторную магистраль, ведущую в район знаменитой Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). А тогда, в тридцатые годы, конец Первой Мещанской у Крестовской заставы был и концом города. Дальше за железнодорожными путями Октябрьской дороги начиналась совсем непохожая на Москву ее дальняя северная окраина. Трамваи, автомобили, ломовые и легковые извозчики, долго дожидавшиеся своей очереди, пропуская встречный транспорт, медленно и осторожно, чтобы не задеть друг друга, ехали-ползли по узкому, дугообразному мосту мимо Пятницкого кладбища, рядом с ним, выезжая у Дробильного завода на узкое, выложенное булыжником Ярославское шоссе. А трамваи еще более медленно, раскачиваясь на рельсах, как на волнах, двигались справа от шоссе. Быстро им ехать по этим рельсовым качелям было нельзя. Вагоны часто сходили с рельсов. И тогда по всей трамвайной линии, вплоть до Сухаревской площади, вагоны выстраивались в очередь в долгом ожидании, пока аварийная бригада с помощью домкратов и рычагов не ставила вагон на рельсы. В этих случаях пассажирам проще и быстрее было добраться до нужного места пешком. Вот и мне приходилось часто зимними вечерами, после уроков, добираться до дома пешком. Мама, конечно, волновалась. Но я с пути никогда не сбивался.
Ярославское шоссе и Закрестовскую окраину начала тридцатых годов я запомнил с той весенней поездки на Суконную улицу, где был построен для нас и для девушек-работниц фабрики имени Ногина двухэтажный восьмиквартирный щитовой дом без коммунальных услуг.
По правую и левую сторону Ярославского шоссе, от Дробильного завода и до Ростокино, тянулись в ряд деревянные одно– и двухэтажные дома. В некоторых из них, как и на всякой выездной городской окраине, были торговые лавки, кузни, шорные и другие ремонтные мастерские для конно-гужевого транспорта, отправляющегося в далекий и недалекий загородный путь. А за домами тянулись огороды. Сразу за нашей остановкой – «Суконная улица» – слева от шоссе и вовсе простирались поля совхоза имени И. В. Сталина с рядами кочанной и цветной капусты, свеклы и брюквы.
Суконная улица, на которой теперь нам предстояло поселиться, оказалась совсем недлинной. На ней по разные стороны стояли по 5–6 бревенчатых домов, с сиреневыми палисадниками, с заборами-частоколами, с воротами, калитками и огородиками внутри дворов. В некоторых дворах в сараях мычали коровы, а в каждом из них кудахтали куры и орали петухи. Улица была не мощеная, а потому в сырую погоду – непроходимая. В этом я сразу убедился, оставив в вязкой грязи свои новые калоши, когда мы переходили на другую сторону. Тротуары обозначались канавками, по которым вниз по улице стекала черная и вонючая вода со двора фабрики, именем которой наша улица и называлась. Но оказалось, что фабрика эта вовсе была не суконной. Может быть, раньше она и была таковой, но теперь на ней обрабатывались и красились меха – кроличьи, а может быть даже кошачьи и собачьи. Справа, посередине улицы, между домами высились высокие ворота Ярославского колхозного рынка. Совсем недавно, еще до нашего переселения, сюда переехали мелкие торговцы, жулики и воры со знаменитого Сухаревского рынка.
В конце Суконной улицы тогда стояла огромная лужа, невысыхающая даже в жаркое лето. Вода в ней была вонючая и черная от стекающего сюда с фабричного двора ручья. На берегу этой лужи, отражаясь в ней, возвышался отдельно стоящий дом в полтора этажа. Наверное, когда-то этот дом был красивым, с мансардой и башенками. Но теперь он был какой-то ободранный, с заплатами на крыше и облупившейся штукатуркой. Этот дом принадлежал известной здесь семье Власовых, с младшими членами которой я вскоре познакомился. А в день первого приезда сюда я увидел их на плоту посередине грязно-черной лужи. А дальше, за лужей, стояли дома-новостройки и штабеля бревен и досок для тех, которые еще не были построены. Огромный пустырь за лужей осваивался в начале тридцатых годов переселенцами из разных областей, краев и республик России.
Стандартными одно– и двухэтажными домами, преимущественно барачного типа, в это время застраивалось все пространство с концов коротких улиц, спускающихся от Ярославского шоссе к пустырям, до Сокольнического леса. Вдоль его опушки в два ряда, образуя улицу, которая теперь называется именем Павла Корчагина, а тогда – Мазутным проездом, выстроились наиболее благоустроенные, хотя тоже деревянно-щитовые дома городка «Метростроя». В этих домах жили семьи инженерно-технического персонала строителей Московского метро. В городке были предусмотрены особые удобства для этих особых жителей. Специально для них на Ярославской железной дороге была построена платформа, которая сначала называлась «Пятая верста», а потом была переименована в «Маленковскую». Инженеры и техники – метростроевцы и члены их семей – на электричках могли быстро с этой платформы попасть в Москву, прямо к строящейся на вокзальной площади станции метро «Комсомольская» и расположенным рядом с ней станциям «Сокольники», «Красносельская», «Красныеворота», «Кировская».
В метростроевском городке был клуб, различные бытовые мастерские, промтоварный и продуктовый магазины с большим ассортиментом гастрономических, бакалейных, кондитерских, мясных и овощных продуктов. Сначала, во времена продкарточек, он был закрыт для посторонней публики. Но с отменой карточек их магазин могли посещать все.
Метростроевский городок, сохраняя свое название, простоял до начала пятидесятых годов. В эти годы сюда пришла новая цивилизация. Вместо деревянных двухэтажек вдоль Мазутного проезда параллельно железной дороге встали десятиэтажные благоустроенные дома, в которые вселились ответственные работники солидных ответственных государственных и партийных учреждений. Но скоро из-за постоянного шума проходящих железнодорожных составов эта категория населения потихоньку перекочевала в еще более благоустроенные районы.
Наш пустырь от метростроевского городка отделял безымянный ручей, который начинался с заболоченных когда-то концов Старой и Новой Алексеевских улиц и, петляя по овражку, впадал в речушку Копытовка, которая сама была притоком Яузы. Когда-то и ручеек, и речушка были чистыми и не вонючими. Но уже в середине тридцатых их погубили отходы банно-прачечных, мыловаренных и мехообрабатывающих окрестных производств. Со временем они исчезли – строители, преобразователи природы, заключили их в коллектор. Теперь они несут свои мыльные воды невидимыми путями. Не только названия, но и самое их существование жителями окрестных улиц и кварталов давно забыто. Я же до сих пор помню их незатемненные струи и чистые зеленые луговые берега, на которых со своими товарищами мы собирали щавель и другие съедобные стебли, как когда-то на нашем деревенском лугу. По левому берегу безымянного ручейка уже к нашему приезду были выстроены бараки для рабочих-строителей будущего орденоносного «Мосжилстроя». В них жила публика непритязательная из недалеких и далеких сельских мест, занятая на стройках Москвы в непрестижных профессиях землекопов, грабарей, штукатуров, плотников. А совсем близко к нашим домам располагались вместе с конюшнями и парком специального транспорта обозные ассенизаторы треста «Мосочистка». Их еще называли «золотариками». Со стороны этого конно-гужевого парка всегда тянуло соответствующими запахами. Но не только ими отличались от прочих эти дворы. Среди возчиков были парни, которые своей удалью наводили страх на окрестное население. Драку эти молодцы могли учинить без причины, просто после выпивок. Но чаще всего они возникали на почве соперничества вблизи девичьих общежитий. Немало таких удальцов было и среди молодежи городка «Мосжилстрой». У них был свой вождь-предводитель. Кличка у него была сказочная и страшная – Аржак. Можно сказать, что вся территория городка была подчинена его воле и молодецкой силе. Авторитет Аржака передавался и всей подростковой и ребячьей молодежи городка. Его территория была суверенна и неприступна для посторонних. Но и за ее пределами люди старались избегать встреч с шумными ватагами подвыпивших парней. А через некоторое время я увидел этого человека в нашей Мало-Марьинской бане, он работал там парикмахером и выглядел совсем нестрашным, а скорее симпатичным парнем.