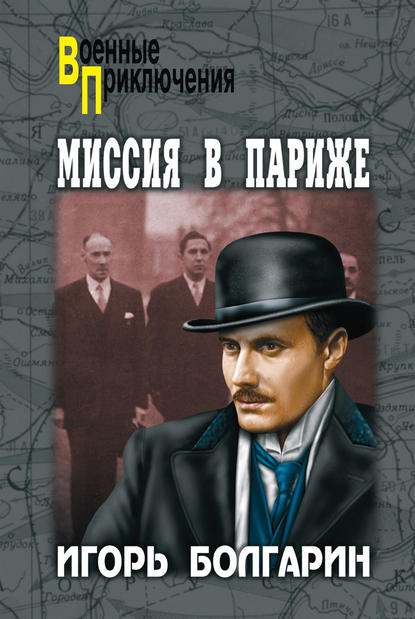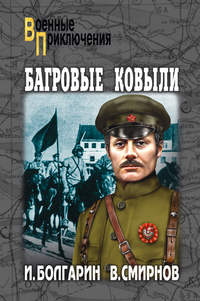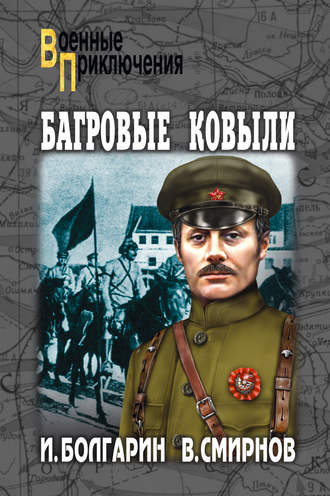
Полная версия
Багровые ковыли

Игорь Болгарин, Виктор Смирнов
Багровые ковыли
© Болгарин И.Я., 2009
© Смирнов В.В., 2009
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства www.veche.ru
Часть первая
Глава первая
Почта в Стамбуле работала по принципу, который господствовал во всех остальных ведомствах Блистательной Порты: этого не может быть, но это есть и действует.
В городе не было ни табличек с наименованием улиц, ни номеров домов. Между тем улиц, если считать ими и короткие лестничные спуски и подъемы, сжатые домами с нависающими над ступенями вторыми и третьими этажами, насчитывалось более десяти тысяч. А уж домов-то, в том числе совершенно немыслимых сооружений из камней, кирпича, бревен, палок, глины, жести, старой парусины, достигающих иногда трехэтажной высоты, да еще с плоскими крышами, где тоже жили, спали, мылись, готовили пищу, было, говорят, не менее двухсот сорока тысяч.
Город, в котором в мирное время проживало около миллиона жителей, за последние годы принял в себя еще более трехсот тысяч – победителей, главным образом англичан, американцев, французов и итальянцев, а также беженцев. Разобраться в этом муравейнике не мог никто: ни даже сам эфенди градоначальник, ни его губернаторы и каймаки, управляющие городскими округами и пригородами.
Но, как бы там ни было, босоногие стамбульские почтальоны, которым приходилось бегать не только по гладкой брусчатке нескольких роскошных улиц в богатом районе Пера, но и по булыжнику улиц попроще, в Эюбе или Скутари, а также шлепать по земляным и вечно грязным и скользким из-за стекающих нечистот улочкам старых районов – касбы, довольно быстро и точно находили адресатов. Еще в самом начале улицы почтальон начинал выкрикивать фамилию адресата, и тотчас эта фамилия дружно подхватывалась десятками голосов и перекатывалась из дома в дом. И вот, пожалуйста: получатель письма уже спешит к почтальону, протягивая мелкие монетки взамен доставленного конверта. Это бакшиш от бедняка к бедняку.
«Исмарладык!» – «Гюлле, гюлле!» – прощаются почтальон и счастливый получатель, которому теперь еще предстоит найти того, кто смог бы прочитать то, что написано в письме.
Иностранцы издавна предпочитали содержать в Стамбуле собственную почту. Так было надежнее. Существовал русский, французский, немецкий почтамт. Теперь же с русской почтой вообще стало проще: все письма, адреса которых были написаны кириллицей, шли в представительство Врангеля на улицу Пера, а дальше, уже совсем по-турецки, проходя через десятки рук, отыскивали адресата.
– Баклагина Мария Ивановна? Она здесь, в представительстве, в кабинете второго секретаря вместе со Ртищевыми… Смотряевы? Подались в Париж. Пересылай на рю Гренель, в посольство. Там найдут… Должанский? Иван Семенович? Он же получил сербскую визу и отбыл в Белград…
Как-то жарким утром, когда даже ветер с Черного моря (родной, родной северный ветер!) не принес прохлады, Маша Рождественская, славная девчушка, несмотря на полуголодную жизнь, вечно что-то напевающая, отыскала Таню Щукину в саду представительства:
– Таня, пляши! – И помахала голубоватеньким конвертом. – Пляши, тебе говорят, а то не отдам.
И заставила все-таки взволнованную Таню изобразить пальцами и кистями рук мелкий русский перебор да пройтись по аллейке с притопом. Только после этого раскрасневшаяся от волнения и быстрых движений Татьяна получила конверт. Письмо было от Микки Уварова. Посылая письмо с оказией, Микки, очевидно, хорошо знал, как работает нынешняя почта, потому что адрес на конверте был предельно прост: «Константинополь, Русское представительство на Гран Пера, Татьяне Николаевне Щукиной. При отбытии адресата прошу переправить в Париж, на рю Гренель, в Русское посольство».
Древнее название Константинополь с легкой руки русских вновь возродилось в это мятежное время. Они называли так Стамбул не только из-за благозвучности для русского уха. В самом имени Константин звучала надежда, в нем как бы подчеркивалось, что они не на чужбине, что совсем близко родина и что еще возможен возврат к старому.
Были у города и другие имена: Истамбул, Царьград, Коспол, которыми тоже пользовались, и не только в устной речи. И что удивительно, подписанные этими названиями письма тоже, как правило, находили своих адресатов.
Получив письмо, Таня сделала то, что делали все обитатели представительства, получая весточку из России, точнее, из той ее маленькой части, которую еще можно было именовать Россией: она поднесла конверт к лицу и втянула в себя воздух. И ей вдруг показалось, что сквозь пряные, южные ароматы Константинополя пробивается запах родной земли, тот, что не передать словами, тот, что возвращал память к березовым рощам, бескрайним лугам, поросшим кувшинками речушкам…
– Что там, Танечка? Кто пишет? – тут же собрались вокруг Щукиной молоденькие любопытные сестренки Рождественские. «Общежитие» предельно упростило их быт, и многие правила хорошего тона отошли в прошлое. Таня ничего не ответила, нашла за кустами азалии укромное местечко и принялась читать.
«Вдруг Уваров узнал что-либо о Кольцове?» – было первой ее мыслью, когда она еще только вскрывала конверт.
Почерк у Микки был красивый, аккуратный, с декоративными завитушками. Несомненно, в гимназии по каллиграфии он получал самые высокие баллы.
«Уважаемая, милая и дорогая Татьяна Николаевна! – писал Микки. – Для начала остановлюсь на наших крымских делах: после всех злоключений я теперь служу у Петра Николаевича Врангеля адъютантом по особым поручениям. Служба обычная, рутинная, но зато я часто выезжаю на фронт в Северную Таврию, где наши дела идут хорошо, если не сказать большего. Боюсь сглазить.
Но позвольте перейти к главному. Где бы ни застало Вас и Вашего отца мое письмо, в Константинополе или в Париже (я полагаю, что вы задержитесь в Турции – во-первых, из любопытства, во-вторых, из-за необходимости оформления всех бумаг), я надеюсь, Бог милостив: мои строки отыщут Вас.
После Вашего отъезда, Татьяна Николаевна, я почувствовал себя в полнейшем одиночестве, хоть и виделись мы с вами нечасто, да я и боялся отвлечь Вас от Ваших мыслей, в которых для меня, наверно, было очень мало места. Сказать, что я привязан к Вам, значило бы не сказать ничего. Но я понимал Вас, Ваше состояние и никогда бы не посмел высказать то, что очень хочу, если бы не полное изменение обстоятельств, которые делают невозможными какие бы то ни было связи с прошлым.
Конечно, Вы не обращали на меня внимания и не ощущали моего отношения к Вам еще в те времена, когда ставка Владимира Зеноновича находилась в Харькове и Вы приходили повидать отца. Все чудовищные перипетии дальнейшей жизни лишь утвердили меня в сознании того, что я давно, верно и крепко люблю Вас, Татьяна Николаевна. Теперь я могу сказать об этом недвусмысленно, напрямую. До сих пор это мое признание могло показаться Вам навязчивым и не вполне тактичным.
Среди большой беды, выпавшей на долю России и всех русских, я должен изъясняться ясно и четко. Было бы чудовищно потерять Вас в этой кутерьме. Татьяна Николаевна, я предлагаю Вам свою руку и сердце. Если Господь будет столь милостив к моей малой судьбе и сохранит мне жизнь в эти годы скитаний и потерь, я сумею сделать так, чтобы Вы не испытывали никаких лишений и мук. Если мое предложение и мои чувства не вызывают у Вас неприятия, я сумею добиться временного командирования к нашему послу в Париже Василию Алексеевичу Маклакову, так как существует постоянная необходимость в доставке особого рода документов. Наша встреча могла бы прояснить все окончательно. Пожалуйста, откликнитесь! Для меня менее мучительно было бы перенести Ваше “нет”, чем молчание.
Мысли мои только о Вас. Мой самый почтительный поклон Николаю Григорьевичу. Пожалуйста, передайте ему, что я нижайше прошу Вашей руки, но нарушаю этикет, обращаясь прямо к Вам, поскольку время войны безжалостно расправилось с теми правилами, по которым мы жили еще совсем недавно.
Ваш – если Вы распорядитесь – до конца бытия Михаил Уваров».
Таня расплакалась. Письмо напомнило ей о тех недавних временах, когда делали предложения, являлись к родителям, просили руки и сердца, сватались, обручались, месяцами готовились к свадьбе как к самому главному событию в жизни не только двух молодых людей, но целых семейств. Предложение Микки, высказанное в самом достойном тоне, почему-то вызвало у нее жалостливое состояние. Было жалко себя, своей любви к Павлу и любви Микки к ней. Как все перепуталось в этом мире!
Если бы Кольцов был адъютантом генерала Ковалевского, без этой сложной игры, без этих большевиков! Он тоже мог прислать ей такое письмо. Она бы согласилась на все и на первом же пароходе вернулась в Севастополь – навстречу неизвестности, всем возможным грозам и бурям, лишь бы быть с ним. Но Микки…
А впрочем, что Микки? Он простодушен, чувствителен. Будь он на месте Павла, ради любви отказался бы от «своих» и бросился к Тане, презрев все обстоятельства. За что же ей плохо относиться к бесхитростному и простосердечному Микки?
Плач Тани перешел в рыдания.
– Что случилось, Таня, кто-то погиб? – захлопотали вокруг нее Рождественские.
Старшая из сестер, Анюта, уже готова была разрыдаться вместе с подругой. Ранней весной, при отступлении, у нее без вести пропал жених. У средней, шестнадцатилетней Маши, убили знакомого гимназиста, ушедшего на фронт вольноопределяющимся.
– Нет, все живы, слава Богу! – сказала Таня сквозь слезы. – Просто мне делают предложение!
Рождественские дружно расхохотались, принялись обнимать подругу. Предложение! И это в такое трудное военное время. Половина русских женихов, интеллигентных мальчиков, взявшихся за грубое дело войны, уже лежали в сырой земле. А истребление все продолжалось.
– Счастливая ты, Танюша!
Счастливая? А разве нет? Если бы рассказать подругам, что ее жених к тому же богат, да не прошлым, растаявшим в снегах России богатством, а европейским, банковским, надежно вовремя вывезенным, то-то было бы шуму, и переполоху, и радости, и зависти, и слез!
И как раз в этот вечер объявился отец. Он очень изменился за это короткое время: исхудал, загорел, у рта залегли новые жесткие складки. Его глаза, которые покойная мать когда-то называла ястребиными – желтовато-карие, строгие глаза, – приобрели еще более суровый и хищный взгляд. Таня понимала, что он был занят какими-то своими тайными служебными делами, и ни о чем не расспрашивала. Хотя многое в поведении отца после отставки казалось ей странным.
Деликатные соседи по комнате оставили отца с дочерью наедине. Таня напоила Николая Григорьевича чаем, настоящим цейлонским, купленным в хорошем магазине напротив представительства на Гран Пера. Щукин с жадностью выпил сразу три чашки. Таня, с дочерней покровительственной нежностью, смотрела на его коротко остриженный, седой затылок, худые, жилистые руки с крохотными, похожими на веснушки пигментными пятнами.
Таня знала, что отец нравится женщинам. Многие из них с радостью приняли бы ухаживания или просто внимание отца. Но он держался строго и аскетично, словно боясь лишить ласки и заботы свою единственную дочь.
Бедный, бедный папа! Своим эгоизмом она принесла ему столько горя и переживаний!.. На секунду Таня прижалась щекой к его седому, угловатому затылку. И ей вдруг показалось, что с отцовской нежностью и любовью она ощутила исходящую от него волну какой-то злой решимости.
Чем занимался он все эти дни? Где пропадал? Почему так изменился, погрубел? Татьяне даже показалось, что она догадывается. Письмо Микки Уварова, несомненно, снимет с его души самый тяжелый камень. Если… если она примет предложение.
Таня положила письмо перед отцом. Неизвестно, лежали ли когда-нибудь на этом инкрустированном, но уже порядком потертом за последнее время представительском ломберном столике любовные послания.
Отец дважды внимательно прочитал письмо Уварова. Подумал, вздохнул.
– Достойное письмо, – сказал он наконец. – Микки, похоже, очень изменился за последнее время. Война сделала из мальчика мужчину.
Таня ждала другого ответа, хотя услышать такую похвалу от отца ей было тоже приятно. Она боялась, что он считает Уварова аксельбантовым пустозвоном.
– Таня, ты ждешь от меня решительного слова, совета? Да, Михаил богат и красив, образован, деликатен. Выдав тебя за него замуж, я мог бы быть спокоен. Но я ничего не скажу тебе. Ты должна решать сама, как подскажет сердце. Я женился на твоей матери по страстной любви, и, хоть наше счастье было недолгим, мне жаль тех, кто не испытал такого. Я хочу, чтобы ты была счастливой женщиной. Ты не должна жертвовать собой ради нашего будущего благополучия. Мы небогаты, но можем рассчитывать на скромный достаток. Видишь ли, я тут не терял времени даром и занимался кое-какими коммерческими делами. Вполне успешно. Ты можешь считать себя не стесненной материальным расчетом.
Произнеся эту непривычно длинную для себя речь, Николай Григорьевич замолчал. И, вдруг подумав, что разговор получился слишком сухим, погладил дочь по руке.
Таня нежно посмотрела на отца. Да, его глаза стали другими. К печали, появившейся в них со смертью мамы, прибавилась жестокость. Таня не раз слышала, что контрразведчики не раз использовали свои возможности, чтобы приобрести «материальный достаток» за счет тех, кто находился в их власти. Но неужели ее отец?.. Да и не было у него сейчас никакой власти.
Таня по молодости еще не знала, что опыт, связи, знания и профессиональное умение, которым обладает настоящий контрразведчик, – это тоже власть.
Николай Григорьевич вдруг усмехнулся.
– Нет, Таня, я не совершил ничего несправедливого, ни один порядочный человек от меня не пострадал. Ты ведь об этом думаешь, верно?
Таня облегченно вздохнула.
«Как порой ей не хватает матери! – подумал Щукин. – Если бы была жива Люба! Только она могла найти нужные слова. А может быть, никакие слова не нужны, а лишь материнское, женское участие: слезы, поцелуи, объятия. На многие испытания обрек Господь Таню, так рано лишив ее матери».
– И все же это достойное мужчины письмо, – повторил Щукин. – Но знаешь что, отложи свои мысли и соображения до Парижа. Как говорят, Париж стоит мессы. Мы отплываем завтра.
– Как? Почему так спешно? – удивилась Таня.
– Да, завтра. Так получается. И пароход подвернулся хороший – «Великий князь Константин Павлович». Чистый. Визы уже в кармане. Собирайся, времени совсем мало.
Как легко он это сказал: визы в кармане. А сколько связей пришлось задействовать, сколько денег потратить, чтобы получить их во французской миссии!
– И завтра с утра у нас будет праздник, – сказал Николай Григорьевич. – Я наконец свободен, и мы на прощание пойдем гулять по Константинополю.
– Ой, папочка! – радостно воскликнула Таня. – Как хорошо! Ведь мы, кроме Пера, нигде не были.
«Ну вот, слезки уже и высохли, – вздохнул Щукин. – Девочка устала от переживаний и одиночества. Без близких, совсем одна».
– Мы пойдем в турецкие кварталы, – сказал Щукин. – Поэтому на вот, примерь.
Таня достала из пакетика, который протянул ей Николай Григорьевич, темную вуаль – чарчафу. Такие дорогие накидки отличали знатных турчанок. Таня тут же надела ее и завернула вокруг головы, как это делают настоящие турчанки, лишь оставила небольшую щель для глаз. Из этой щели на Щукина смотрели незнакомые, необыкновенной красоты глаза.
– Без вооруженного спутника такую красавицу даже в чарчафе никуда из дому нельзя выпускать, – сказал Щукин. – Особенно в касбу, в старый район… Знаешь, у тебя мамины глаза!
…Как ни рядись европейская женщина в восточные одежды, в ней все равно легко угадать чужестранку. Даже просторное турецкое платье, даже чарчафа не могли скрыть ни юную, гибкую фигурку Тани, ни красоту ее лица. Турчанки веками учились, согласно законам шариата, прятать на улицах свою стать и молодость.
Едва Щукин и Таня прошли по улице Пера к фуникулеру, как к ним пристроился полный грек в феске, в дорогом костюме, с массивной золотой цепью для часов и с безвкусным, но украшенным крупным изумрудом перстнем. Грек держался в отдалении, пристально рассматривая Таню. Как ни старался он быть неприметным, Щукин сразу вычислил неумелого «наружника». То, что он интересовался не полковником, а Таней, тоже было очевидно, и Николай Григорьевич лишь про себя посмеивался.
Недалеко от грека, искоса поглядывая по сторонам, шел однорукий Степан в военной форме. Это была подходящая одежда. К русским военным турки относились хорошо, особенно к инвалидам: это были не чванливые победители из стран Антанты. В них турки чувствовали родственную душу, так как и сами даже в своей стране выглядели чужаками, людьми второго сорта.
В вагончике трамвая, проделывающего километровый путь в темном тоннеле от района Пера к Галате, которая лежала у самого слияния Босфорского пролива и залива-гавани Золотой Рог, зажглись неяркие лампочки. Николай Григорьевич тут же объяснил дочке, что ей следует пересесть в женское отделение, и кондуктор, получив от Щукина пиастры, проводил Таню в угол вагона, задернув за ней занавеску. Несколько турчанок уже находились в этом отделении, и Тане показалось, она уловила сквозь складки чарчаф их насмешливые взгляды. Они сразу признали в ней приезжую. Действительно, платье девушки, хоть и достаточно длинное и широкое, сильно отличалось от темных, мешковатых, украшенных пелеринками платьев турчанок, сшитых с тем, чтобы тщательно скрыть даже малейший намек на женственность.
Полный грек, который тоже оказался в фуникулере, тут же пересел на освободившееся рядом с Николаем Григорьевичем место и скороговоркой, но на достаточно понятном русском языке объяснил ему, что очень заинтересовался юной женщиной, спутницей уважаемого русского господина. Не важно, дочь это или жена, потому что он, грек, очень богат, а русскому господину скоро понадобятся деньги, много денег. И есть хорошая возможность уступить греку красавицу, потому что у него хоть и есть жена в Пирее, но и здесь ему нужны дом и хозяйка, которая будет жить, как жена, и даже лучше, потому что он, грек, умеет любить и ценить женщин. Он постоянно живет в Стамбуле, у него несколько складов и три парохода.
Степан, который стоял рядом, держась за спинку сиденья, наклонился и тихо прошептал Щукину на ухо:
– Прикажете выкинуть его прямо здесь, в тоннеле?
Похоже, Степан входил во вкус. Щукин успокаивающе похлопал его по широкой, как лопасть весла, ладони, озорно подмигнул.
– «Ехал грека через реку, видит грека – в реке рак», – смеясь, протараторил Николай Григорьевич скороговорку и, склонившись, пояснил настойчивому владельцу пароходов: – Будешь дальше приставать, в первом же удобном месте пристрелю… Хочешь?
Судовладелец не обиделся.
– Русски офицер, да?.. Русски офицер – хороший, смелый, умеет воевать, – сказал он. – Но без денег плохо будет. Совсем плохо. Тогда думай. – И он сунул в нагрудный карман Николая Григорьевича визитную карточку. – Через полгода приходи, шашлык есть будем, вино пить, друзья будем!
И исчез, прямо растворился. Куда делся, Щукин не понял да и не интересовался вовсе…
Вышли из трамвайчика. Мимо здания Биржи прошли к Новому Галатскому мосту, заполненному народом, и, заплатив несколько монет сборщикам платы, одетым в жаркие балахоны, перешли на другую сторону. Здесь как будто кончилась Европа и началась другая страна, хотя это и был, собственно, исторический Константинополь, бывший центр Византийской империи, просуществовавшей тысячу лет.
Таня растерялась в гаме и шуме, окружившем ее. Теперь она поняла, почему отец взял с собой Степана, который на голову возвышался над всеми, видел далеко окрест и не отступал от Тани ни на шаг. Но больше всего поразили девушку молчаливые, как бы застывшие фигуры нищих турок – они не просили, нет, просто стояли, глядя перед собой в никуда, и тихо или даже вовсе беззвучно повторяли суры Корана. Иные делали вид, что торгуют, держа в руке полусгнивший, подобранный тут же, в порту, среди ящиков, банан, апельсин или лимон… Один из таких продавцов, подбрасывая и ловя зеленый грязный лимон, то и дело повторял: «Амбуласи, амбуласи» («Лимоны, лимоны»), хотя плод у него был всего лишь один.
Таня видела, должно быть, что это нищие, смертельно голодные, тяжело больные люди, с глазами, уже закрытыми трахомой, со слипшимися веками, потерявшие конечности в боях на Галлиполи. Но каждый из них всеми силами старался доказать, что он не нищий, не проситель, а торговец или просто увлеченный молитвой, общением с Аллахом человек, ибо нищенство в Турции было строго запрещено. В европейскую часть города таких людей просто не пускали, чтобы они не портили красивого вида заполонившим центр американцам, французам, итальянцам и англичанам. Зато здесь они еще могли рассчитывать на снисхождение полицейских, если не занимались откровенным попрошайничеством.
Для Тани в одно мгновение померкло очарование небывало красивого города с его бесконечными храмами, мечетями, синагогами, дворцами, рынками, медресе, садами, банями, акведуками, старыми стенами и башнями, с блеском окружающих город вод малых речушек. Она почему-то вспомнила русские празднества, с нищими на папертях и вокруг храмов, с каликами перехожими, которым каждый старался сунуть копеечку, кусок кулебяки, яблоко, а то и зазвать к себе – напоить и накормить целую компанию…
Эти же бедняги, которые стояли так ровно, так безгласно, уже предали себя в руки Аллаха, «да будет благословенно имя Его», и готовились к тихой, неприметной смерти, которая могла прийти в любой день и в любой час и свалить прямо на грязную улицу. Проезжающие мимо, наверно, поспешно уберут тело, чтобы не мешалось под ногами, и сволокут куда-нибудь на баржу, которая, как только заполнится, будет отправлена на один из безымянных островов, превращенных в кладбище.
Таня то и дело выпрашивала у отца несколько пиастров, подбегала к нищему и быстренько совала монетку, отчего тот испуганно вздрагивал, оглядывался и шепотом благодарил.
– Барышня, милая, – тихо сказал ей Степан, – всех не одарите, их же тут мильоны…
Таня вспомнила Кольцова, один их разговор, когда он старался объяснить ей причины революции. «Посмотрите, сколько нищих бродит по России! Да разве только по России? Сколько бездомных, безнадежно больных! Разве можно справиться с этим при помощи благотворительности? Подаянием? Хотя и оно, конечно, – дар бесценный. Необходимы полное переустройство общества, бесплатное лечение, образование, жилье, нужна забота всех о каждом. Не должно быть нищих в стране дворцов. А ведь этих дворцов в одном только Харькове, оглянитесь, сотни, в Петрограде – более тысячи…»
«Милый, милый Павел, русский мечтатель, превратившийся в воителя. Для всех он шпион, изменник, преступник. И лишь одна я в этом белом стане понимаю, что у него не было дурных намерений и мыслей, что он хотел людям только добра. И не его вина, что добро обретается лишь в кровавой борьбе… Ну вот я отправилась посмотреть на самый красивый и экзотический город мира, а сама тут же начала думать о Павле. А Микки с его предложением счастья для двоих, уединившись на островке среди моря бедствий, исчез куда-то далеко, и даже попытка сравнить этих двух людей показалась нелепой и смешной…»
Впервые Таня была довольна, что лицо ее закрыто. Она еще глубже надвинула чарчафу на глаза, чтобы никто не увидел ее слез.
Прошли Бит-Чарши – базар или настоящий город старьевщиков, где торговцы на грязных тряпках, газетах и ящиках разложили, казалось, всю рухлядь мира. Вещи, которые, скорее всего, не имели никакой цены и никому не были нужны. Обломки бритв, половинки ножниц, гнутые гвозди, колесики от будильников, сломанные фарфоровые статуэтки, рамы для картин с отвалившейся лепниной, перьевые ручки, засиженные мухами гравюры – весь хлам Европы и Азии собрался на этом перепутье дорог. И, как ни странно, здесь шла торговля и стоял неимоверный крик.
Щукин со Степаном тоже что-то искали на Бит-Чарши. Переговорили с несколькими продавцами, посмотрели какие-то вещи, завернутые в промасленные тряпки, наконец выбрали что-то небольшое, но увесистое. Эту странную вещь им почтительно, с поклонами завернули в чистую, свежую газету и перевязали бечевкой. Ни Николай Григорьевич, ни Степан не стали объяснять Тане, что они купили новенькую «беретту» – итальянский автоматический пистолет, небольшой и очень надежный. У Степана не было своего личного оружия (не трехлинейку же брать с собой в поездку!), а такая вещь, как «беретта», очень даже могла пригодиться в дополнение к солдатскому кулаку. Дорога предстояла длинная, да и кто сказал, что пароход в это время – самое безопасное место?
Николай Григорьевич не стал объяснять дочери, что Бит-Чарши – это место, где покупают и продают оружие. Солдаты и офицеры всех армий, проживающие в Стамбуле, проигравшись в покер или кости или просто по денежной нужде, приносили сюда свои «наганы», «вальтеры», «вебли-скотты», «энфильды», «кольты», «браунинги», гранаты Мильса, штыки и даже ручные пулеметы «гочкис» или «мадсен».