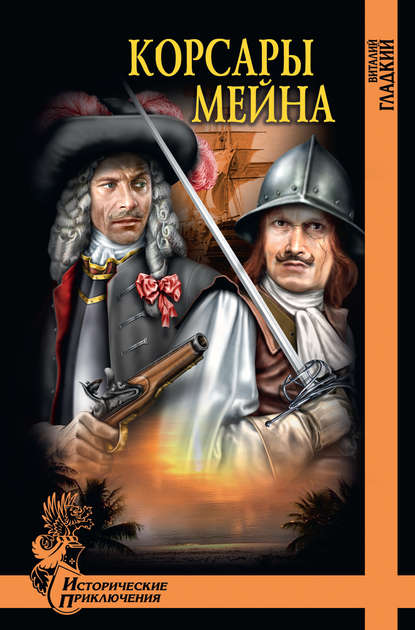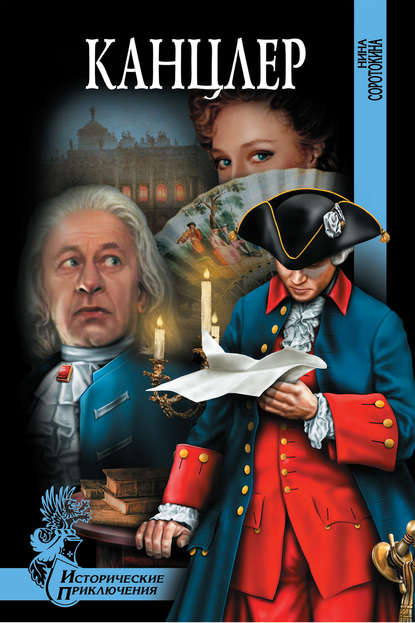Полная версия
На край света

Владимир Кедров
На край света
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© Кедров В. Н., 2006
* * *Часть первая
1. Рыбий зуб
Под вечер одного из погожих дней, в начале июля 1646 года купеческий приказчик Федот Алексеевич Попов в раздумье медленно выходил из ворот Нижне-Колымского острога. Красивый, юношески стройный, одной рукой он придерживал наброшенный на плечо охабень, широкий верхний кафтан с большим, спускавшимся на спину прямоугольным воротником, а другой – то потирал русую, коротко подстриженную бородку, то отмахивался от комаров. Опушенная соболем черная бархатная шапочка, небрежно сдвинутая на затылок, открывала высокий загорелый лоб. Рассеянный взгляд серых глаз выдавал неудовлетворенность и тоску, овладевшие им в последние месяцы.
Попов на мгновение зажмурился от лучей солнца, отраженных широким бердышом казака – стражника, стоявшего у ворот, и глянул вниз на реку.
Полноводная Колыма, в те времена – граница русских владений на северо-востоке Сибири, широко раскинулась перед ним. Подгоняемая свежим южным ветром, она несла украшенные беляками воды мимо желтоватых осыпей берегов, яров, местами поросших тальником.
Белые чайки парили над рекой, то и дело стремительно снижаясь до самых волн. Затем чайки взмывали ввысь, унося серебристых рыбок, трепетавших в их клювах. В вышине, на фоне светло-голубого неба, гуси махали широкими крыльями.
Несколько небольших мореходных судов, кочей и лодок, называемых карбасами, стояло у берега. Человек пятнадцать промышленных людей, стуча топорами, хлопотало около них.
– Эй! Коч идет! – крикнул стражник за спиной Попова.
Снизу из-за берегового утеса показался коч. Восемь гребцов взмахивали веслами, борясь с течением. Высокий рулевой что-то кричал.
«Кто бы это мог быть? – подумал Попов. – Не Мезенец ли? Он и есть!»
В воротах острога показались любопытные. Многие из них побежали к реке.
Коч Исая Игнатьева, по прозвищу – Мезенца, врезался в песок.
Попов сверху видел, как Игнатьев и его спутники вышли на берег и поклонились по обычаю – на три стороны. Промышленные люди и казаки приветствовали мореходцев. Окруженные толпой, мореходцы поднялись на крутой берег и расположились на плавнике.
Взгляд Попова потерял выражение рассеянности. Молодой человек быстрыми шагами подошел к мореходцам и сердечно поздравил их с благополучным возвращением.
Скоро едва ли не все мужское население острога, человек около семидесяти, собралось вокруг прибывших. Бородатые лица суровы и решительны. Особо выделялись несколько человек. На них были длинные красные кафтаны, украшенные черными петлицами. Красноверхие собольи шапки лихо заломлены. Это все служилые люди – грозный, хоть и немногочисленный, всего десяток бойцов, гарнизон острога. У каждого из них сбоку висела сабля. Их руки опирались на тяжелые фитильные пищали. Можно было увидеть здесь и охабни торговых людей, приехавших на Колыму менять русские товары на соболей и черно-бурых лисиц. Большая же часть собравшегося люда была одета в сермяги да в кухлянки, сшитые из оленьих шкур. На головах этих людей нахлобучены мохнатые, у многих рваные и затасканные, меховые шапки. На их поясах висели широкие подсайдашные ножи[1]. Это промышленные люди, охотники, приехавшие на Колыму в поисках соболя, лисиц и песцов.
Многие из них в прошлом были крестьянами. Свободолюбивые люди, они бросили обжитые земли на родной Руси, испытав гнет крепостного права, постепенно приобретавшего форму закона. Они уходили от барщины бояр и помещиков на вольные земли все дальше и дальше на восток. Пройдя всю Сибирь, большинство беглых превратилось в отважных таежных охотников, мало напоминавших прежних хлеборобов. Многие промышленные люди просили поверстать себя в казаки. Однако и на государевой службе они не оставляли пушного промысла, полюбившегося им, как прежде было любимо земледелие.
Мореход Исай Игнатьев, человек лет сорока, с живыми, колючими, глубоко запавшими глазами, поудобнее расположившись на бревнах, рассказывал:
– Срядились мы, государи мои, вот с ним, с Семеном Пустоозерцем, да с товарищи, и побежали мы Студеным морем от Колымы на всток[2]. Нам счастье, вишь ты, выпало: идучи заберегой[3], мы льду и не видывали.
– А левее, мористее, – перебил Игнатьева Пустоозерец, – там, братцы, не то. Там все дни лед обозначался.
Пустоозерец поднялся во весь свой рост, на голову возвышаясь над толпой, и показал на север.
– Обозначался? – переспросил его Попов.
– По цвету неба мы его примечали, Федот Алексеич, – ответил за Пустоозерца Игнатьев. – Над льдом, государь мой, небо-то заметно светлее. Набелью зовем мы те отсветы. Так издалека лед-то себя и оказывает… Вот и дошли мы до большой губы[4]…
– А много ль ходу до той губы?
– Да бежали мы, государь мой, два дня да две ночи, парусов не опущаючи, – степенно отвечал Игнатьев. – Да. И увидели мы проход в ту губу. Слева, вишь ты, – низкий остров. Справа – камень[5] на большой земле. Ладно. Входим мы в тот проход. Не без опаски.
– И велика же та губа! – воскликнул Пустоозерец. – Другого берега и не видно! Где там!
– А в той губе, – продолжал Игнатьев, – нашли мы людей – чукчей. Становище большое. Выбежало их, добрые люди, с сотню, а то и больше.
– Да куда там, – больше! – махнул рукой Пустоозерец.
– И то больше. Должно, на праздник какой-нибудь они собрались. Нас же было лишь девятеро. Не дозволил я робятам выйти к чукчам для торгу. Этот вот, – Игнатьев показал на Пустоозерца, – все ладил выйти к ним. Смел больно! Молодость. Только я не дозволил. Да!
– А не дозволил ты, дядя Исай, дело прошлое, попусту, – недовольно проговорил Николай Языков, промышленный человек лет тридцати.
Ростом Языков не очень выдавался, но был из тех людей, у которых, как говорят, можно на шее оглоблю переломить.
– Не случалось, что ли, нам биться одному супротив десятка? – говорил он с улыбкой на круглом лице. – Справлялись? Ну, и там не оплошали бы, коли чукчи полезли бы драться.
– Вот послушайте их! Такие неуемные! Чистое с ними наказание!
Попов смотрел то на одного мореходца, то на другого. Их спор казался ему забавным.
– Ладно, – продолжал рассказывать Игнатьев, – отошли мы вдоль берега малость назад. Вынесли там на берег разный товарец. Разложили. Сами же – на коч, да от берега и отвалили. А чукчи подошли, берут наши сковороды, котлы, ножи, бусы примеряют.
– Лопочут по-своему, смеются! – вставил Иван Скворец, вытянув длинную шею и хихикая.
– Забрали они наш товарец, а заместо него положили кость «рыбий зуб», – рассказывал Игнатьев.
– Из этой кости у них топоры да пешни[6] поделаны, – снова перебил его Скворец.
– Гришка, – сказал Пустоозерец своему покрученику[7], – ну-ко летом: снеси-ко сюда пару рыбьих зубов, самолучших.
Григорий мигом принес моржовые клыки. Все удивились их величине и весу.
– Этот зуб фунтов на десять, пожалуй, будет, – подняв желтоватый клык, Попов взвесил его на руке.
– Три – четыре рыбьих зуба пуд весят, – самодовольно отозвался Пустоозерец. – А цена рыбьему зубу – пятнадцать, а то и все двадцать пять рублев за пуд!
– А самим-то вам, – спросил мореходцев Попов, – довелось ли встретить моржей?
– Видывали, – отвечал Игнатьев, – только добыть ни одного не добыли.
– Чукчи-то, видать, познатнее вас охотники, – заметил промышленный человек Иван Зырянин, скорчив рожу и почесывая затылок. Вокруг засмеялись.
– Бывалые люди, поморы, сказывают, – Игнатьев сделал вид, что не слышал колкости Зырянина, – морж на иные корги[8] в великом множестве вылегает. На тех коргах можно много моржей добыть. Только такой корги мы не видывали. Должно быть, они – там, подалее, за большой губой. – Игнатьев махнул рукой.
Служилый человек, казачий десятник, Дежнев задумчиво поглядел в направлении руки Игнатьева и промолвил:
– Да, там же дале за губой и незнаемая река должна быть, Погыча. Прошлым годом о ней юкагир Кенита сказывал. Погыча – она же и Анадырь-рекой прозывается.
Федот Попов сбросил с плеч охабень. Он посмотрел на Дежнева. Глаза Попова блестели. «Что это с ним?» – подумал Дежнев.
Холмогорец по рождению, Федот Алексеевич Попов был доверенным приказчиком богатого московского купца Алексея Усова. Лет шесть назад Усов прислал его с несколькими покручениками из Москвы в Сибирь менять товары на «мягкую рухлядь» – соболей, лисиц, бобров, песцов. Мысль о возможности открытия новой реки взволновала Попова. Она не раз приходила в голову молодому приказчику. Да и одному ли ему!
Последние четырнадцать лет были временем небывалых по размаху поисков новых земель и великих открытий в Сибири.
С 1632 года, когда стрелецкий сотник Петр Бекетов заложил на Лене Якутский острог, открытия новых земель и рек следовали одно за другим со сказочной быстротой. Казаки, а за ними торговые и промышленные люди соревновались в открытиях неведомых до того рек.
Предприимчивые казаки наперебой били челом воеводе, отпрашиваясь на «дальнюю государеву службишку» – проведывать новые реки. Небольшие отряды казаков отважно проникали через тайгу и горные хребты все дальше на север, юг и восток от Якутского острога.
И года не прошло с основания Якутского острога, а уж казаки Иван Казанец, Михайла Стадухин и Постник Иванов осмотрели левый приток Лены – реку Вилюй. Тем же летом 1633 года Иван Ребров с отрядом казаков спустился по Лене в Студеное море. Эти смельчаки открыли реки Оленек, Яну и Индигирку.
Посланный Ребровым Илья Перфильев еще не успел довезти до Якутского острога весть об открытии новых рек, а уж коч казачьего десятника Елисея Бузы бежал по Студеному морю следом за Ребровым. Тем временем конный отряд Постника Иванова исследовал среднее течение Индигирки. А в 1639 году томский казак Иван Москвитин, выйдя к берегу Охотского моря, завершил движение русских «встреч солнца», начатое 59 лет назад Ермаком Тимофеевичем. Русские достигли Тихого океана.
В окружавшей Игнатьева толпе казаков Попов видел Семена Дежнева, Михайлу Савина, Сергея Артемьева и Григория Фофанова – участников недавнего открытия реки Колымы. Пять лет назад оставив Якутский острог, эти люди пришли на Колыму под начальством всем известного Михайлы Стадухина. Сначала они побывали на Оймеконе-реке, верховом притоке Индигирки. Затем они спустились по Индигирке в Студеное море и лишь немногим опоздали открыть реку Алазею: на ней уже был Дмитрий Ярило. Соединив отряды, Стадухин с Ярилой двинулись дальше и тем же летом, четыре года назад, открыли Колыму-реку.
«Теперь наступил наш черед… Мой черед! – думал Попов. – Я должен искать Погычу-реку! Я проведаю ее!»
– Вы приметили, ребята, – сказал он промышленным людям, – мало уж стало соболя на Колыме-реке. Многовато вас собралось. Да и ловки вы стали добывать зверя. Вон один Мишка Захаров почитай что половину соболей перевел, – он указал на молодого охотника, разжигавшего костер. – А там, на этой Погыче или Анадыре-реке, – нетронутые охотничьи угодья! – все более увлекаясь, говорил Попов. – Зверь пушной там непуганый. Почему же не быть там соболю? Отчего бы не водиться лисам? А кость «рыбий зуб» где ж еще искать, коли не там?
Игнатьев утвердительно кивал головой.
– Сибирские реки текут на полночь[9] в Студеное море.
– До Анадыря-реки можно добраться морем, как, скажем, с Лены до Колымы. Может статься, и другие новые реки приищутся. А ты, Семен, как думаешь? – обратился Попов за поддержкой к Дежневу.
– Думаю, Федя, ты дельно говоришь. Морем можно добежать до Анадыря-реки. Слыхивал я: богата река Анадырь. А на тех новых землицах, думать можно, и людей много живет.
Дежнев встал. Его крепкая, ладно скроенная фигура четко рисовалась на фоне бледного небосвода. Холмогорец, как и Попов, Дежнев[10] был того, частого в северной Руси, типа, который сохранился там и поныне – высокий крутой лоб, глубоко сидящие серые глаза – спокойные и серьезные, прямой и крупный нос, русая борода, подстриженная по-крестьянски лопаткой.
– Коли бы та река, – продолжал он, – да те землицы новые под государевой рукой были, немалая бы прибыль Руси от того получилась.
Промышленные люди зашумели.
– А верно. Отчего бы нам туда не податься! – сказал Михайла Захаров своему другу Ивану Зырянину.
– Здорово было бы! А? – весело блеснув черными глазами, отозвался Зырянин.
Попов поднял руку:
– Ребята! А ну, говори, кто искать новую реку охотник!
– Я! Я! Я! – закричали со всех сторон, и несколько десятков рук поднялось над толпой.
– Исаю Игнатьеву и Семену Пустоозерцу, первым показавшим путь, честь и место, – говорил Попов, оглядывая поднявших руки. – Степан Сидоров! Без тебя этого дела и не мыслю: кочевой мастер в морском походе – первый человек! Михайла Захаров, Иван Зырянин! Да с такими богатырями не то что до Анадыря-реки, до края света можно дойти.
– Уважь, Михайла, – обратился кочевой мастер к писарю Савину, – пиши, кто охотник идти за рыбьим зубом.
Писарь, смекнувший, что дело без чарки не обойдется, охотно передал свою пищаль служилому человеку Семену Моторе и отстегнул от пояса болтавшийся на нем пузырек с чернилами.
Вдруг Попов обернулся к Дежневу:
– А что, Семен, пойдешь ли с нами приказным на Анадырь-реку?
– А подняться поможешь?
– Неужто не помогу! – воскликнул Попов.
– Кабы моя воля, так пошел бы. Да не ведаю, отпустят ли…
Но Попов не дослушал и уже кричал звонким голосом, обращаясь к народу:
– Любо ли вам, други, под рукой Дежнева идти на Анадырь-реку?
– Любо! Дежнева! Семена Иваныча! – закричали со всех сторон.
Попов обнял Дежнева.
– Спасибо вам, добрые люди, – сказал Дежнев, кланяясь народу на три стороны, – а только воля не моя: как еще приказный скажет.
Попов схватил его под руку и увлек в съезжую избу. За ними толпою повалили промышленные люди.
2. Челобитная
Тяжелые тесовые ворота были открыты. Шумная толпа вошла во двор, огороженный тыном – крепким забором из врытых в землю толстых кольев. По углам высились боевые бревенчатые башни. Посредине стояло несколько низких изб, и между ними та, что называлась съезжей. В ней жили приказный[11] и целовальник – хранитель государевой казны, учетчик и приемщик ясака[12].
В ту пору в остроге не было его начальника, недавно выбранного казаками приказного Гаврилова. С неделю назад Гаврилов ушел вверх по Колыме, оставив за себя целовальника Петра Новоселова.
В тесную съезжую избу вошли не все, да всех бы она и не вместила. Новоселов сидел на лавке, покрытой медвежьей шкурой. Высокий, худощавый старик, одетый в черный суконный кафтан, отделанный потускневшими серебряными галунами, он дремал, опершись рукой о колено. Его голова была опущена, а мохнатые седые брови нависли над закрытыми веками.
– Доброго здоровья тебе, Петр Иваныч, – громко произнес Попов, переступив порог.
Новоселов глянул на вошедших усталыми глазами. Его длинное, худое лицо со впалыми щеками носило печать долголетней суровой жизни, исполненной тревог и лишений. Промышленные люди, нагибаясь, входили через низкую дверь и протискивались за спинами Дежнева и Попова.
Новоселов встал, поклонился вошедшим:
– Здравствуйте, добрые люди! Ишь ты, сколько вас! С чем пожаловали?
– Бьем челом великому государю. А здесь, на Колыме, тебя, Петр Иваныч, просим принять наше челобитье, – Попов снова поклонился в пояс.
– В чем же челобитье? – спросил Новоселов.
Попов выложил Новоселову дело и просил отпустить его с двенадцатью покручениками и с полсотней промышленных людей в морской поход проведывать новую Погычу или Анадырь-реку. Также просил он, от имени товарищества, отпустить с ним приказным служилого человека Дежнева.
Новоселов сел на лавку, задумался. Все молча ждали его слова. Лишь слышалось дыхание десятков людей.
– Доброе дело, Федя. От него может быть прибыль государю, – сказал Новоселов и обернулся к Дежневу.
– Самому-то тебе, Семен, охота ли идти?
Дежнев усмехнулся.
– Как же не охота, Петр Иваныч?
– Что ж, отпустить тебя, Семен, можно.
Новоселов оперся обеими руками о стол, наклонился вперед и, глядя в упор на Дежнева, продолжал:
– Но отпущу я тебя лишь из государевой прибыли. Должен ты объявить прибыль с новой реки. А сколько объявишь? Обожди, – остановил он Дежнева, заметив, что тот хочет ответить, – подыматься ты будешь своим подъемом, – длинный костлявый палец Новоселова указывал на Дежнева. – За все это дело один ты будешь ответ держать. А коль не соберешь тех соболей, что объявишь в своей челобитной, коли вернешься ни с чем, все объявленное будет с тебя взыскано.
Новоселов откинулся на скамье к стене, складки на его лбу распустились, и он, говоривший до этого сурово, вдруг приветливо глянул на Дежнева.
Дежнев стоял, опираясь на саблю, и думал.
– Объявляю прибыль в пять сороков десять соболей[13], – ответил он Новоселову.
Все переглянулись: двести десять соболей стоили дорого. Однако Новоселов спокойно одобрил:
– Меньшего и не жду. Государю Михайлу Федоровичу казна очень надобна. Много врагов у Руси: тут поляки, тут шведы, там турки. Чтоб Русь защитить, нужно большое войско. А на войско нужны деньги. Глядишь, и твои соболишки, Семен, пушку, а то и не одну, отольют, – добавил он улыбаясь. – Пиши челобитную. Я на тебя надеюсь.
– Но всяк знай, кто пойдет, – продолжал он, подняв палец, – служилый человек Дежнев пойдет блюсти государев интерес. Он за вас ответ даст. А вы – слушать его беспрекословно! Он – ваш приказный и передовщик[14]. Слово его – закон.
– Знаем, Петр Иваныч! Так и будет! – загудели охотники.
Писарь Михайла Савин пристроился у стола. Он разгладил серый шершавый лист бумаги, обмокнул гусиное перо в пузырек с чернилами и, уперев язык в щеку и склонив голову набок, начал выписывать, буква за буквой, слова, медленно роняемые Новоселовым. В письме он был мастером непревзойденным. Даже Михайла Захаров, на что уж мастак соликамский, а и он не мог тягаться с Савиным в искусстве лихих росчерков. У Савина заглавная буква – высотою в четыре строчки. Жирная буква «С» была вчетверо больше прочих буковок и охватывала какую-нибудь букву «т», словно змеиная пасть, проглатывавшая муху.
Все стояли вокруг, боясь кашлянуть. Для многих грамота была тайной за семью печатями. Потея, слушали слова Новоселова, падавшие тяжелыми каменьями; зрили превращение этих слов в затейливые завитушки и черточки, возникавшие на бумаге.
«Государю, царю и великому князю Михайлу Федоровичу всея Руси бьет челом холоп его, Ленского острога служилой человек Семейко Иванов Дежнев», – так начиналась челобитная.
Новоселов принял бумагу, и народ стал выходить из избы.
Дежнев приглядывался к своему молодому другу Попову. Такого светлого, торжественно-радостного выражения лица он никогда еще у него не видел. Попов смотрел на окружавших его людей, но, поглощенный мыслями, вряд ли узнавал их.
Думал ли он о новых, неведомых землицах, что ему придется увидеть? Мог ли он представить себе хоть часть тех удивительных приключений, в которые вовлекала его эта затея?
Как бы там ни было, одно можно сказать: не о своем хозяине Усове и не об его интересах думал Попов. Он почти забыл о далеком хозяине.
Гудевшая, словно улей, толпа заставила Попова очнуться. Он приказал покрученикам выкатить на косогор бочонок вина. Застучали кружки. Прокричали здравицу государю. Потом пили здравицу Дежневу, Попову, Новоселову. Горячее стали разговоры. Грянули удалую казачью песню.
Настала полночь. Красноватое сплюснутое солнце коснулось северного горизонта. Подернутый дымкой горизонт стал ярко-желтым. Над солнцем висела узкая гряда облаков. Ее края пылали красным пламенем.
Желтые и красные блики местами сверкали по тундре: то солнце играло на зеркале вод, скрывавших страшные бадараны – ямы, наполненные жидкой грязью.
Тусклым золотом блестела зелень тощих лиственниц, стоявших здесь и там на берегу. Обычно серые стены и башни острога стали багровыми. У острога пылали костры. Около них, освещаемый пламенем и лучами солнца, двигался шумный люд.
Долго еще гуляли промышленные и торговые люди вместе с казаками, празднуя заговор[15] товарищества и начало большого дела.
3. Студеное море
Прошел год. Отшумели зимние метели. Наступил июньский день, когда четыре коча Семена Дежнева вышли из Колымы в Студеное море.
Дул крутой попутник[16]. Третьи сутки, ныряя в волнах, кочи бежали на восток. Справа, примерно за версту, чернел матерой берег[17]. Низкий у моря, он постепенно поднимался, а там, вдали, одетый туманами, вдоль берега тянулся горный хребет – «камень», как его называли землепроходцы.
Наступила третья ночь, летняя белая полярная ночь – без звезд, без луны, полночь, в которую красноватое солнце висело над северным горизонтом.
Стоя на «помосте», служившем крышей казенке или каюте кормщика, Дежнев устало оглядывал дорожки оранжевых облаков, тянувшиеся по небу. Волны матово поблескивали, отражая ослабленные и холодные лучи солнца.
Позади Дежнева, держа рычаг руля, стоял сосредоточенный Михайла Захаров. Он был на правеже[18] и при кормщике боялся сделать малейший промах.
Подозвав полукормщика[19] Сухана Прокопьева, Дежнев наказал ему вести судно и по скрипевшим ступеням спустился на плотик – среднюю часть палубы. Через низкую дверь кормщик вошел в свою каюту – казенку.
Слабый свет, проникавший в казенку через два кормовых оконца, освещал стол и постель. Полом казенки служили елани, положенные на днище коча.
Как ни тесна казенка, но она была все же много выше средней и носовой заборниц (отсеков) коча. В средней, грузовой, заборнице можно было передвигаться лишь на четвереньках. В носовой же заборнице – «поварне», где помещались остальные мореходы, можно было стоять лишь согнувшись.
Дежнев опустился на постель, не раздеваясь. Здесь, в казенке, все скрипело и стонало. Волны глухо били в днище коча. От каждого удара судно содрогалось, и казенка гудела, как барабан.
Над головой Дежнева слышались шаги и голоса Захарова и Прокопьева.
Из-за двери с плотика доносились скрип мачты, гудение паруса, шум волн.
Но едва Дежнев прилег, он уж перестал слышать шум. Сон мгновенно охватил усталого кормщика. Непрестанные тревоги не оставляли Дежнева и во сне. Он что-то бормотал, ворочался, вдруг выкрикнул: «Держи правее!»
Но вот сонное лицо Дежнева смягчилось. По нему пробежала улыбка. Не женка ли его, якутка Абакаяда, навестила Дежнева во сне? Не в ее ли черных глазах Дежнев увидел упрек себе, шесть лет назад оставившему ее одну бороться с нуждой в Якутском остроге? Не сынишка ли Любим протягивал к Дежневу голые ручонки?
– Семен! Кормщик!
Дежнев открыл глаза. Перед ним то появлялось, то исчезало освещаемое фонарем рябое лицо Сухана Прокопьева. Прокопьев тряс его за плечо.
– Сиверко задул![20] Несет к берегу! – прокричал Прокопьев, но его голос в гуле и треске был еле слышен.
Дежнев выскочил наверх. Солнце скрылось. Серые клочья облаков низко неслись над морем. Прокопьев уже убрал парус. Мореходцы налегали на весла, выгребая против ветра. За кормой, не более как в полверсте, чернел берег, вздымалась белая пена.
Дежнев оглянулся. Остальные три коча виднелись поодаль. На них гребцы также выгребали в море. Вдали, мористее, Дежнев заметил белую ломаную полосу.
«Лед! – подумал Дежнев. – Ветер гонит лед с моря… Ежели при эдаком ветре лед подойдет, разобьет в щепы!»
– Все наверх! – приказал Дежнев.
Прокопьев бросился к поварне. Приподняв творило[21], он крикнул в поварню что было мочи:
– Гей! Все наверх!
– На весла! Правая табань![22]
Дежнев налег на погудало – рычаг – руля, помогая Михайле Захарову. Разворачиваясь, коч стал боком к волне. Волна поднялась над бортом.
– Держись!
Коч вздрогнул от тяжелого удара. Холодная вода обрушилась на людей, уцепившихся за нашести[23].
Захлебываясь, но удерживая погудало руля, Дежнев поймал за пояс сбитого с ног Захарова.
Едва вода схлынула, люди снова схватили весла. Коч разворачивался. Еще миг – и он уж по ветру мчался к берегу.
– Суханко, отмаши поворот! – приказал Дежнев.
Прокопьев нырнул в казенку, мигом вернулся с белым стягом и отмахал приказание. Тотчас повернули к берегу и кочи кормщиков Попова, Игнатьева и Пустоозерца.
Рев прибоя возрастал. Его белая пена кипела перед кочем.
– Табань! – крикнул Дежнев.
Под днищем коча зашуршал грунт. Коч резко остановился, и люди попадали.
Дежнев стоял наблюдая, как остальные кочи выбрасывались на берег. Громадные волны почти захлестывали беспомощные суда. Дежнев слышал зловещий треск руля. Когда же сквозь разрыв в облаках глянуло солнце, мореходцы увидели в море лед.