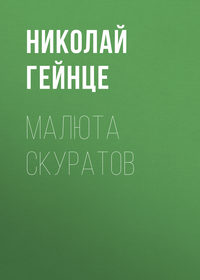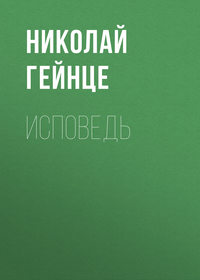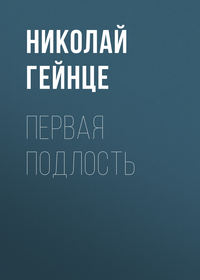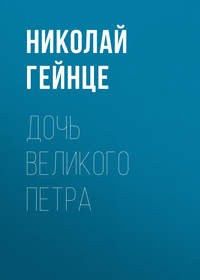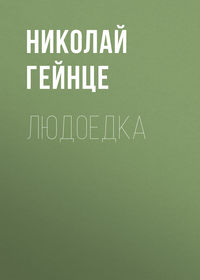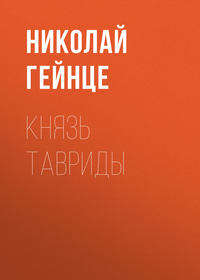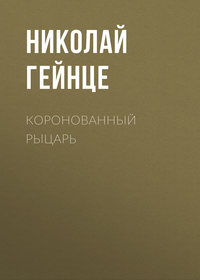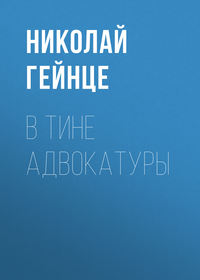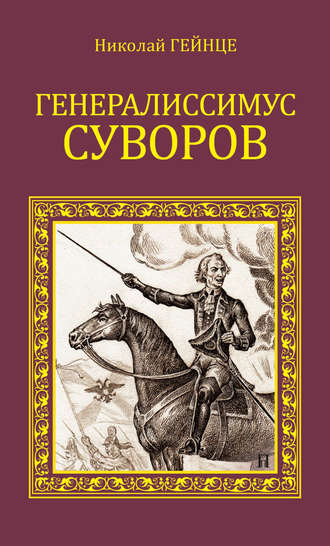
Полная версия
Генералиссимус Суворов
С того времени внутренняя история Польши состоит из непрерывной цепи захватов дворянства из сферы королевской власти. Оставляя в удел народу тяжкое иго, шляхта добивалась для самой себя вольности, какая может существовать лишь в отвлеченном понятии, и результатом таких усилий явилось liberum veto, дающее право одному члену представительного учреждения парализовать решение всех остальных, знаменитое историческое «не позволям» – фраза, могущая служить лучшей красноречивой эпитафией над политическою могилою Польши. Всякая законодательная власть была как бы уничтожена, в государственном сейме внесено зерно ничем не устранимого раздора, и в течение ста лет 47 сеймов разошлись без всякого толка.
Наступила эпоха падения, нравы испортились, распространилось религиозное неверие и легкомыслие; пронырства, подкупы, женские милости сделались рычагами государственных дел. До полного хаоса недоставало одного – иноземного влияния.
За этим дело не стало.
Соседние государи держали на жалованье своих приверженцев, имели свои партии, травили их одну на другую. Хроническая смута укоренилась, Польша быстро двигалась по наклонной плоскости в пропасть. Польское дворянство добивалось и добилось такого объема прав, который перешагнул пределы свободы и сделался своеволием. Этот близорукий, преступный эгоизм подточил и внутреннюю силу государств, и внешнее его значение, низведя и то и другое до полного ничтожества. А соседи тем временем формировались, росли и крепли в смысле государственных организмов. Польша могла уцелеть лишь на каком-нибудь отделенном от всего мира острове, без соседей, без посторонних влияний и происков, но в семье государств ей грозила неизбежная гибель.
Некоторые из поляков схватились наконец за ум, но уже было поздно. В политике несвоевременность – грех неисправимый. Падение Польши стало неминуемым; она дошла до него не по собственной вине, которой соседи только воспользовались.
При другой обстановке дело произошло бы, может быть, несколько иначе, но результат был тот же, так как исчезновение государства с лица земли не может быть последствием одних внешних причин. Напротив, задержка катастрофы, препятствие к ней, заключались не в Польше, а именно в ее соседях, ревниво следивших друг за другом. Польша была добычей – трудность заключалась лишь в дележе.
В описываемую нами эпоху разложение Польши было полное: король с одним призраком власти; могущественные магнаты, ставившие свою волю выше и короля, и закона; фанатическое духовенство с огромным влиянием и с самым узким взглядом на государство и на религию в государстве. Народа не существовало, он был исключительно рабочей силой, не имел никаких прав, находился под вечным гнетом; сословие горожан, ничтожное и презренное, равнялось нулю.
Внутренняя рознь дошла до своего апогея; король против магнатов, магнаты против короля и шляхты, шляхта против короля и магнатов; духовенство дробилось отчасти по этим партиям и упорно стояло против всего некатолического. Партийные интересы перекрещивались в разных направлениях, везде царил мелочной дух, себялюбие отождествлялось с патриотизмом.
Только великий государь мог бы лавировать с успехом между такими подводными камнями, но его в Польше не было. Станислав Понятовский, достигший польского престола при поддержке русского правительства, при некоторых своих достоинствах отличался отсутствием характера – не имел качества, которое именно и было ему необходимо в трудную эпоху царствования. Он постоянно колебался, никогда не решал раз навсегда и мало-помалу потерял доверие всех. Он не в силах был предотвратить взрыва, так как не он управлял событиями, а события управляли им.
В описываемое же время двигателем событий являлся религиозный фанатизм – слепая антигосударственная сила, справиться с которой было бы невмочь и человеку покрепче Станислава Понятовского. Была пора, когда католичеству грозила в Польше серьезная опасность, и церковная реформация приобрела себе между поляками огромное число влиятельных приверженцев. Диссиденты (разномыслящие в вере) добивались почти полной равноправности с католиками, но потом течением событий и собственными своими ошибками из равноправных до степени терпимых. Дело не остановилось и на этом, пошли обиды, притеснения и угнетения.
При Станиславе Понятовском диссиденты потребовали удовлетворения своих жалоб и были поддержаны Россией и Пруссией. В Варшаве собрался сейм. Люди благоразумные и умеренные не прочь были уступить, но фанатики не соглашались, разражались огненными речами и тормозили ход прений. Русский посланник князь Репнин приказал ночью арестовать четырех из них, самых ярых и влиятельных, и отправил в Россию. Противники диссидентов примолкли или разбежались, и закон, восстанавливающий прежние права некатоликов, прошел.
Поступок князя Репнина был крайне резок, но соответствовал, впрочем, с его поведением вообще. Высокомерие его с поляками и всякого рода насилия, которые он позволял себе в Польше, представляются в настоящее время изумительными и маловероятными. Они выражали полное пренебрежение и даже презрение к нации, при дворе которой Репнин был аккредитован. Они были немыслимы нигде, кроме Польши, и служат фактическим доказательством ее нравственного упадка и материального бессилия.
Неудовольствие и негодование быстро распространялись и произвели взрыв.
Некто Пулавский, служивший поверенным в делах у разных вельмож и тем снискавший себе состояние и связи, проектировал план общей конфедерации. Втайне приобретая приверженцев и средства, он отправился в местечко Бар, близ турецкой границы, и тут впервые конфедераты, в числе восьми человек, подписали акт конфедерации 29 февраля 1768 года.
Конфедерация эта получила название Барской. Весть о ней разнеслась быстро; число конфедератов возросло до 8000; маршалами конфедерации избраны Пулавский и граф Красинский; издан универсал для созвания дворянства и всеобщего вооружения против русских и диссидентов. Движение распространялось.
Образовались конфедерации и в других местах; во главе их становились лица знатнейших польских фамилий.
По получении из Петербурга приказаний находящиеся в Польше русские войска атаковали конфедератов всюду; взяли много важных пунктов и прогнали неприятеля в леса. Но у конфедератов было много тайных единомышленников в среде мирного населения, они обнаруживали большую живучесть и росли, как гидра.
России понадобилось усилить свои войска. Главное начальствование над ними было поручено генерал-поручику фон Веймарну. Он был человек умный и ловкий, особенно по дипломатической части, и в военном деле не без некоторой опытности, но немного педант и мелочно самолюбив.
Главная его заслуга заключалась в том, что он в военных действиях ввел единство, которого до тех пор не было. При нем русские войска до прибытия подкреплений, хотя были очень разбросанны и слабы, но могли друг друга поддерживать; подвижные колонны ходили по всем направлениям, отдельные посты поддерживали сообщения во все стороны. Когда оказывалось нужным, сосредотачивались довольно значительные силы.
Конфедераты превосходили русских числом, но им недоставало именно этого единства, не говоря уже про дисциплину, так что в результате русские оказывались более сильными.
В Варшаве ходили тревожные слухи; говорили, что маршал Котлубовский находится вблизи с 8000 конфедератов; что он готовится к нападению на Варшаву и приближается к ней сухим путем и водою по Висле. Тайных конфедератов в Варшаве было много; можно было ожидать беспорядков, а в случае нападения Котлубовского и чего-нибудь хуже.
Прибытие подкреплений из России было очень кстати.
Вскоре пришло известие, что двое Пулавских, сыновья маршала Барской конфедерации, ходили с большими силами по Литве, волновали шляхту и набирали приверженцев. Часть прибывших русских войск пошла, вследствие этого, для соединения с войсками, бывшими в Литве.
В течение целых двух лет действия войск ограничивались мелкими стычками с конфедератами и удерживанием их в почтительном отдалении. Для крупных дел, для решительных ударов русские войска были все-таки слишком малочисленны, а усилить их не было возможности, потому что все, чем могло располагать правительство, было выставлено против Турции.
Герцог Шуазель, управляющий во Франции министерствами военных и иностранных дел, очень ревниво смотревший на развивавшееся могущество России, старался поставить ее в затруднительное положение и с этою целью вошел в переговоры со Швецией и Турцией. В Стокгольме он потерпел неудачу, но в Константинополе успел.
Возбуждаемая советами бежавших конфедератов и подстрекаемая Францией, Порта потребовала у петербургского двора немедленного очищения Польши, а потом, не дождавшись ответа и схватившись за случайное сожжение пограничного своего местечка Бонты русскими войсками, преследовавшими конфедератов, объявила России войну.
Поляки возликовали, и вместо того, чтобы действовать с удвоенной энергией, они возложили все свои надежды на Турцию, больше прежнего стали держаться выжидательного положения и вели войну вяло. Наступило нечто в роде затишья, очень выгодного для русских по малочисленности их сил.
Среди этого затишья застал обе воюющие стороны 1771 год. Не ограничившись поднятием Турции против России, Шуазель еще в 1769 году послал в Польшу заслуженного офицера де Толеса с большою суммою денег для оказания конфедератам пособий и руководительства их военными операциями. Но несогласие и раздоры польских дворян скоро убедили Толеса в бесплодности его миссии, и он возвратился во Францию, привезя назад деньги.
Вместо Толеса Шуазель послал полковника Дюмурье. На верховном совете конфедератов в Эперьеше, в Венгрии, Де-мурье, в видах установления единства начальствования, предложил в предводители принца Карла Саксонского, который обещал выставить 3000 саксонских войск. На это согласились все, кроме Пулавского. Затем он выписал от Шуазеля офицеров всех родов оружия. Составлен был подробный план будущих военных действий. Особенное внимание было приложено к созданию и образованию пехоты путем привлечения австрийских и прусских дезертиров, а также польских крестьян. Ружья были заказаны в Венгрии и Силезии, и большой их транспорт, до 22 000, ожидался из Баварии[3].
С помощью этих и других мер Дюмурье собрал до 60 000 конфедератов и открыл кампанию 1771 года. Вначале счастье улыбнулось французам и полякам.
VI. На Висле
Стояла тихая майская ночь 1771 года.
На небе, усеянном звездами, сверкал серебристый диск луны. Своим мягким беловатым светом освещал он темный лес и проникал своими лучами фантастического зеленоватого света под свод черных сосен.
Огни были погашены, и русский лагерь отдыхал. Кое-где раздавалось ржанье коня, который, фыркая, скакал по прошлогодним листьям и мху, покрывающим землю. Из глубины леса слышались порой окрики часовых:
– Кто идет?
Затем все снова стихало.
Вот медленно проходит унтер-офицер для смены караула. Солдаты, одетые в шинели, уходят без шума, исчезают, как привидения. На смену их являются другие, чтобы в свою очередь нести сторожевую службу.
На прогалине леса у костра сидели человек десять солдат в разных позах, иные дремали, иные слушали монотонный, как шум воды, рассказ старого товарища, бывалого уже в боях и видавшего виды. Другие, тихо разговаривая, курили свои трубки.
– Еремеев, подбавь-ка хворосту… – слышится приказание унтер-офицера, лениво набивавшего свою трубку.
Молодой солдатик вскочил и мигом исполнил приказание ближайшего начальства. Костер с треском разгорается. Вылетает целый сноп искр, и большое пламя освещает окружающую дикую местность, сложенные в козлы ружья, стволы сосен, и красный отблеск огня теряется в темноте густого леса. Старый солдат все продолжает свой рассказ.
– На немца ходили мы при матушке Елизавете, этот, братцы мои, хитер, с ним ухо востро держать было надо, выскочат, как бесенята какие, прости Господи, там, где их и не ждешь совсем…
– А поляк? – послышался чей-то вопрос.
– Поляк… – сильно затянувшись, так, что трубка захрипела, и сплюнув в сторону, продолжал рассказчик. – Поляк, – мы тоже его доподлинно знаем, – глуп… Он форсит, на это его взять, только из форсу-то его выходит один для него конфуз, баба его подзадорит, он на словах для нее на рожон лезть готов, шапку заломит, пошел ходить, а как до дела чуть, сейчас и «до лясу».
– Одначе, они тут, надысь, бойко орудовали, и нашим не поздоровилось… – вставил замечание один из слушателей.
– Так тут с ними француз орудует… А одному ему – куда. Плясать он – лих, болтать он – лют, пить – мастер, а воевать – на то его нет… Да притом, пока он здесь озорничал, на его батюшки-командира не было… Я ведь, братцы, суздалец…
– Что же, что суздалец, такой же солдат, как и другие… Суздальский-то полк нешто выше других. Хвастать ты горазд и все вы, суздальцы… Я-де суздалец… В отряд вас напихали, а что толку… – раздражительно заметил другой, тоже старый солдат.
– Эх, старина, старина, до седых ты волос дожил, а ума тебе, кажется, у поляков занимать надо, а у них насчет этого товару не разгуляешься… Суздальцы, что такое суздальцы… Слыхал ты небось о генерале Суворове?..
– Слыхал…
– То-то слыхал, да не дослышал… Суздальский-то полк с ним почитай два года в Ладоге стоял, а он, отец-командир, бывало, говаривал: «Солдат и в мирное время на войне». Так-то…
Затеявший спор молчал.
– Едва взойдет солнце, он, бывало, родимый наш, уж на ногах и сбор бить велит. «На вахтпарад, братцы, на вахтпарад, – кричит он нам, – смотрите, уж птички Божьи поднялись, а нам грешно не встретить солнышко в чистом поле!» Потом разделит полк и полковую артиллерию на две части и давай сражаться! Сперва застрельщики, потом атака на пушки, на кавалерию и, наконец, в штыки. Напоследях он, батюшка, сам не свой… Бросится, бывало, вперед с обнаженной шпагой и кричит что есть мочи: «Штык в полчеловека, ура! Бей! Коли! Вперед, бегом!.. Наблюдай интервалы!.. Ура, ура!.. Спасибо, братцы! Спасибо, чудо-богатыри!.. Пуля – дура, штык – молодец!.. Победа – слава! Всем по чарке водки!.. Ступай домой!..» Вот он какой командир!..
– С таким смучаешься, – заметил один из молодых солдат.
– Эх ты, дурья голова, а ты в солдаты пошел на боку лежать?.. Так на то бабы Богом приспособлены… А мы не только не скучали таким ученьем, а рады-радешеньки ему были… Втянул он, значит, нас в славную солдатскую науку.
Наступило на несколько минут молчание. Слышно было только, как трещал хворост в костре и сопели солдатские трубки.
– А мы раз, братцы, монастырь штурмой взяли… – снова заговорил балагур-солдат.
– Свой?
– Вестимо свой, для прилику. Захотелось ему, батюшке, показать молодым солдатам штурму. Однажды во время маневров он построил полки и нагрянул на близлежащий монастырь и мигом взял его приступом… Монахи спервоначалу страсть как перепугались… Матушка-императрица Екатерина вызывала командира.
– Досталось?..
– Нет, похвалила даже.
– Дела!..
– Это что, я с ним, батюшкой, на немца ходил… Так там он истинно чудеса делал.
– Ну!..
– Я тогда в гусарах служил и под его команду попал… «Ребята, – говаривал он нам, – для русского солдата нет середины между победой и смертью. Как сказано «вперед», так я не знаю, что такое ретирада, усталость, голод и холод… Успех на войне в глазомере, быстроте и натиске». И действительно, была с ним сотня казаков да нас тоже с сотню гусар… В одну ночь проскакали мы сорок две версты и прискакали к городу Ландсбергу. Высланные вперед для рекогносцировки казаки, вернувшись, объявили, что в городе прусские гусары… «Помилуй бог, как это хорошо, – отвечал Суворов, – ведь мы их и ищем…» – «Не прикажете ли узнать, сколько их?» – заметил сотник. «Зачем! Мы пришли их бить, а не считать! Стройся!» – скомандовал он нам и затем крикнул «марш-марш». Город был взят, пруссаки сдались, хотя были впятеро сильнее.
– Д-да… молодец.
– Уж такой молодец, что другого нет. В городе Голнау его ранили картечью в ногу… Он, батюшка, примочил рану водкой из фляжки и снова вскочил на лошадь… Его начальство было в госпиталь прогонять, а он сказал: «На коне лучше, чем в госпитале…»
Рассказы словоохотливого солдата казались неистощимы.
Вдруг со стороны реки раздался выстрел, затем другой, третий. Солдаты вскочили, в один миг схватили ружья и бросились из леса по направлению к берегу, где выстрелы уже сделались частыми. Это поляки вздумали неожиданно напасть на русский лагерь.
В лагере, действительно, произошло некоторое смятенье. Солдаты спали, но при первом выстреле весь лагерь проснулся. Бросились к ружьям. Лагерь сразу ожил. Восклицания смешались с бряцанием оружия и ржанием лошадей, чующих порох. Слышались брань и проклятия.
– Ах, негодяи!.. Подобрались-таки… Кто мог их ожидать!.. Понабрались духу.
– К оружию, к оружию, вперед, вперед!
Отряд в стройном порядке встретил неприятеля и без особого труда обратил его в бегство. Русские остались хозяевами положения и леса.
Снова раздаются тихие шаги под деревьями, шорох ветвей, тяжелые вздохи, бегущие тени и журчанье реки, которое отчасти заглушало эти звуки. Из середины толпы, освещенной луной, слышались жалобные стоны.
– Помилуй бог, что там такое? – раздался резкий голос, заставивший расступиться толпу.
– Генерал… – пронеслось среди солдат и офицеров.
Это был действительно Александр Васильевич Суворов. Небольшого, даже, вернее, маленького роста, несколько сгорбленный, он имел далеко не представительный вид, на голове его были редкие, уже начинавшие седеть волосы, на лице, несмотря на то что ему было только сорок лет, были морщины. Впрочем, выражение этого, ничем не замечательного лица оживлялось умным, проницательным взглядом.
Расступившаяся толпа открыла печальное зрелище. Трое смертельно раненных лежали на земле. Двое солдат лежали неподвижны, а третий, совсем юный офицер, полулежал, поддерживаемый тем самым балагуром солдатиком, который за какой-нибудь час перед тем рассказывал товарищам о Суворове.
– Помилуй бог, вы ранены, Лопухин… – подошел к юноше Александр Васильевич.
– Я… немного… она… дело… медальон, – прошептал раненый.
– Что… как… как…
– Я вам говорил… генерал…
– Знаю, знаю… Но не в том дело, помилуй бог…
Суворов опустился на колени и поспешно расстегнул мундир Николая Петровича Лопухина – так звали молодого офицера.
– Помилуй бог, дружище, помилуй бог!.. Но это пройдет, все пройдет.
Раненый откинулся назад.
– О, как я страдаю… Поскорее бы конец… – шептал он.
– Что вы говорите… Помилуй бог!.. Сейчас уже и умирать…
– Да, да, я умираю… Не забудьте… мой отец… Саша… вы знаете… Саша… я ее люблю… я ее… обожаю…
Раненый захрипел. Голова его упала на грудь, между тем как правая рука сжимала висящий на груди золотой медальон.
– Умер, умер! – с отчаянием в голосе воскликнул Суворов. Он приложил руку к сердцу раненого. – Нет, нет… оно бьется… Это обморок, положите его на землю…
Солдат, поддерживавший Лопухина, бережно опустил его на траву. Александр Васильевич расстегнул рубашку на его груди. Она вся была залита кровью. Он вынул свой носовой платок, осторожно вытер кровь и обнаружил рану в правом боку. Пуля остановилась между двух ребер. Из растревоженной раны появилось сильное кровотечение. При каждом движении, даже дыхании несчастного, кровь текла ручьем. Суворов сильно прижал рану двумя пальцами.
– Берите-ка его, братцы, двое за руки, а двое за ноги! – скомандовал он окружавшим солдатам. – Поднимайте, но осторожнее, помилуй бог, осторожнее…
Солдаты бережно исполнили приказание любимого начальника. Ровным шагом шли они, унося бесчувственного Лопухина. Суворов шел с ними рядом, по-прежнему двумя пальцами правой руки закрывая рану молодого офицера. Он не отводил глаз с бледного лица несчастного раненого. Кровавая пена покрывала губы последнего.
Сзади их еще раздавались последние выстрелы – это уже стреляли по обратившимся в бегство полякам чересчур рьяные их преследователи.
Солдаты, несшие раненого, и Суворов достигли перевязочного пункта. Искусный старый фельдшер Иван Афанасьевич быстро и умело принялся за дело. Он положил раненого на кожаный матрац и исследовал рану зондом, покачал сомнительно седой головой.
– Что, старина, плохо? – с тревогой в голосе спросил его Александр Васильевич.
– Плоховато, Александр Васильевич, плоховато, ваше превосходительство, да ничего, Бог даст, выживет, молод, натура лучше врача.
– Помилуй бог, как хорошо ты молвил, старина… Натура лучше врача, помилуй бог, как хорошо.
Иван Афанасьевич приступил тотчас к извлечению пули. Операция под его искусными руками удалась отлично. Перевязка уже была окончена, когда страдалец пришел в себя и удивленно оглядывался кругом.
– Что, братец, дурной сон приснился? – обратился к нему Александр Васильевич, подавая окровавленную пулю. – Ничего, все хорошо, что хорошо кончится… Помилуй бог, хорошо…
Раненый не мог говорить и только перевел полный благодарности взгляд с генерала на фельдшера.
– Через две недели опять на ногах, опять молодцом! Чудо-богатырь!.. – сказал Суворов и удалился к своему уже собравшемуся после отражения неприятеля отряду.
Выстрелы уже давно прекратились. Затих как бы и ветер, бушевавший в эту ночь, и только Висла по-прежнему с ровным шумом катила свои валы. Наступило раннее утро.
– Спасибо, чудо-богатырь, славно намылили голову бунтовщикам, другой раз не сунутся будить русских людей, спросонок русский человек бьет еще сильнее… Спасибо, чудо-богатыри!
– Рады стараться, ваше превосходительство! – гулко разнесся по всему лесу ответ тысячи голосов на приветствие любимого начальника.
В отряде уже знали, как отнесся генерал к раненому молодому офицеру, любимому солдатами за мягкость характера, за тихую грусть, которая была написана на юном лице и в которой чуткий русский человек угадывал душевное горе и отзывался на него душою. Такая сердечность начальника еще более прибавляла в глазах солдат блеска и к без того светлому ореолу Суворова.
Оставим его на дороге к Кракову, где и произошло несколько стычек с думавшими напасть на него врасплох поляками, и попытаемся передать картину раннего детства и юности этого выдающегося екатерининского орла, имя которого было синонимом победы и который силою одного военного гения стал истинным народным героем.
Слабо перо, но сильно желание.
VII. Детство Суворова
При московском великом князе Семене Ивановиче Гордом выехали из Швеции в Московскую землю «мужи честны» Павлин с сыном Андреем и тут поселились.
Потомство их росло, местилось и расселялось. Один из этих потомков назывался Юда Сувор. От него пошел род Суворовых.
Прадеда Александра Васильевича Суворова звали Григорием Ивановичем, он был сыном Ивана Парфентьевича и дедом Ивана Григорьевича.
Иван Григорьевич Суворов служил при Петре Великом в Преображенском полку генеральным писарем, был дважды женат и умер в 1715 году. От первой жены он имел сына Ивана, от второй (Марьи Ивановны) – Василия и Александра.
Все три сына Ивана Григорьевича были женаты и оставили по себе потомство; Василий Иванович имел сына Александра и дочерей Анну и Марию.
Василий Иванович Суворов родился в 1705 году. Крестным отцом его был Петр Великий. Это обстоятельство легко объясняется местом служения Ивана Григорьевича в Преображенском полку и в Преображенском приказе.
В 1722 году Василий Иванович Суворов поступил денщиком к государю, при Екатерине выпущен в Преображенский полк сержантом, два года спустя пожалован в прапорщики, а в 1730 году произведен в подпоручики. В конце тридцатых годов был он Берг-коллегии прокурором в чине полковника и в сороковых годах получил генеральский чин.
Василий Иванович Суворов был вообще хороший, с образованием, ретивый, исполнительный служака, недурной администратор, особенно по части хозяйственной, но из ряда современников не выступал и никакими военными качествами не отличался. С сыном он имел очень мало общего; главною точкою соприкосновения их характера была бережливость, даже скупость, но и то совершенно различного свойства.
В Василии Ивановиче не было ничего похожего на ту поражающую энергию и необыкновенное развитие воли, которые оказались потом отличительными чертами его сына. Не перешли ли эти и другие особенности к А. В. Суворову от матери, в каком смысле влияла она на развитие их в своем сыне, сознательно или бессознательно, отрицательным образом или положительным?
Ответа на подобные вопросы, замечает биограф А. В. Суворова А. Петрушевский, нет, а между тем знакомство с характером матери, ее темпераментом, воспитательными приемами, быть может, разъяснило бы многое в смелой и загадочной натуре ее сына.
О матери Александра Васильевича Суворова известно только то, что ее звали Авдотьей Федосьевной и что вышла она замуж за Василия Ивановича в конце 20-х годов. Отец ее Федосий Мануков был дьяк и по указу Петра Великого описывал Ингерманландию по урочищам. В 1718 году, во время празднования свадьбы князя-папы, он участвовал в потешной процессии, одетый по-польски, со скрипкою в руках; в 1737 году был петербургским воеводою и в конце года судился за злоупотребления по службе.