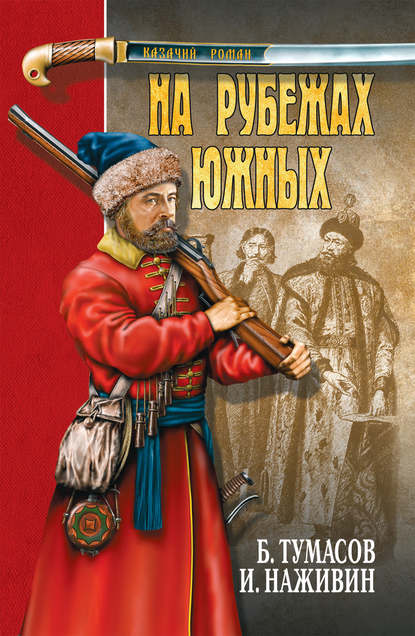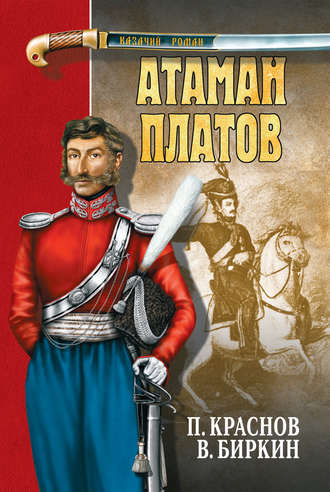
Полная версия
Атаман Платов (сборник)
А «обстоятельства» пора поправить! Даже на офицерах мундиры рваные, лошади подбились, патронов немного остается… И рисуются в мечтах у казаков тяжело нагруженные серебром, золотом и оружием повозки, и задумчиво смотрят они на лес, за которым их ожидает добыча.
Солнце поднималось выше, лучи становились ярче, в воздухе – теплее.
– Бум! – одиноко ударил выстрел на французской батарее; молочно-белый клуб дыма медленно выкатился, озолотился сверху солнечными лучами и медленно растаял. Было почти шесть часов утра.
– Бум! – сейчас же ответили с готовностью у русских, и канонада началась.
Перекрестились солдаты, и в сознании каждого мелькнула одна мысль: «Началось, Господи благослови!»
Принц Гессенский поехал к Кутузову за разрешением сделать поиск в тыл. Две атаманские сотни, с полковником Балабиным, побежали на разведку и для развлечения французской уланской заставы.
Потянулись долгие, скучные часы. Напряженно всматривались казаки в ту сторону, откуда должен был появиться Гессенский, и страх отказа и надежда на разрешение были на их лицах.
А слева уже кипел пехотный бой. Вдруг сразу вылетали стайки дымков и раздавался треск залпа, потом такая же стайка дальше и опять треск, покрываемый гулом орудий.
Все были заняты, все были сосредоточены. Одни стреляли, другие наводили, третьи заряжали, и ни о чем больше не думали, как о своем маленьком деле. Круг мировоззрений каждого вдруг сузился до чрезвычайности, весь мир был позабыт. Наполеон, Бородино не имели ничего общего с людьми, а было: друг – оружие, патрон – голубчик, было дело скусывать пулю, насыпать порох… Родненькой шомпол забивал пулю, а на кремень насыпался порох. И кремень, и курок стали словно одушевленные большие предметы, а самому хотелось сделаться узким и тонким, как сабля, чтобы пули проносились мимо.
«А что рядом убили Иванова – не беда, оно даже и не заметно, а ловко, что не по мне хватили», – вот что было на сердце у каждого, вот что думалось каждому в эти тяжелые минуты Бородинского боя.
Бой быстро разгорался. С развернутыми знаменами, с громом музыки шли полки вперед, таяли от ружейного огня и ядер, дружно кидались в штыки, отбивались и снова шли… Время летело незаметно в центре позиции, где распоряжался сонный Кутузов, где были построены фланги и батареи. Казаки с тревогой прислушивались к шуму боя и все ждали позволения.
И вдруг радостная весть разнеслась по бивуаку.
– Позволено! – побежали полковники к своим полкам, раздалась команда: «Садись», и сотни казаков двинулись через Калочу…
В тылу французской армии действительно было неустроено. 86-й пехотный линейный полк отдыхал здесь, составив ружья, фурштаты, лакеи и денщики в серых блузах играли беспечно под повозками в карты, другие чистили платье, повар какого-то маршала в вырытой в земле кухне готовил обед, иные спали, завернувшись в шинели, иные задумчиво смотрели на лабиринт повозок, на бледное русское небо, на леса и кусты, на мокрую землю. Грохот орудий и трескотня ружей тут были менее слышны, а потому и бой не так чувствовался. Фланг охранял уланский эскадрон, которого с утра развлекала лава атаманского полка. Сначала она беспокоила его своими эволюциями, своим протяжением, но потом к ней присмотрелись и не обращали больше внимания. Солнце высоко поднялось, от мокрых мундиров и шинелей шел легкий пар, и приятная теплота клонила ко сну.
Было двенадцать часов дня, когда лава атаманцев вдруг широко раздалась, и из-за густых зеленей стали высыпаться сотни одна за другой – и сколько их! – без числа. Молча, как привидения, выносились одни из кустов и деревьев и скакали вперед без криков и шума. Уланы бросились было навстречу, послали донесения, но живо были перерублены и переколоты, и сотня трупов доказала, что они свято исполнили свой долг.
Линейцы начали строить каре, даже дали залп, но не могли задержать кавалерийских масс. Фурштаты, денщики и лакеи поспешно кидались на лошадей и скакали к армии, разнося по ней страшные слова: «обойдены» и «казаки». Дорвались голодные, обтрепанные казаки до давно жданной добычи, пососкакивали с лошадей и буквально зарылись в тяжелые фуры с амуницией и одеждой.
Все годилось казаку. Риза с образа вьючилась рядом с перламутровой шкатулкой, и все прикрывалось стеганым одеялом и штиблетами: на шпагу клался тяжелый вальтрап, золотом шитый, а сверху пестрая шаль…
Остановить грабеж было невозможно, офицеры и Платов это понимали. Выслав атаманцев и еще кое-какие твердые полки на стражу, они хладнокровно ожидали, когда страсти поулягутся и пройдет первая жажда добычи. Корпус Уварова дебютировал из лесу, и стройные регулярные эскадроны галопом шли дальше в тыл, навстречу легкой кавалерийской бригаде Орнано.
С изумлением и презрением смотрели офицеры лейб-драгунского, лейб-гусарского, лейб-уланского и нежинского полков на вывернутые повозки, разбитые сундуки.
– Безобразие! Орда, а не солдаты! Никакой дисциплины!.. Один беспорядок – никакой пользы от них!
И продолжительное спокойствие за казачьими спинами с одиннадцатого июня по двадцать шестое августа забывалось за минуту старинной страсти к грабежу, к добыче…
Чтобы отвратить солдат от казачьего разгула, слышна в рядах команда: «На четыре повода, равнение направо – галопом… И чище глаз… равне-ение!»
Плавно идет галопом корпус, и завистливо смотрят глаза солдат на гуляющих казаков.
Но время кончить. Коньков на Ахмете летает карьером среди повозок, передавая приказание – по коням! Преследовать французов за лес.
Живо собираются казаки в сотни и уже скачут сквозь густые зеленя навстречу дружным залпам линейного полка. А в то время как Платов и Уваров хозяйничали в тылу, французы готовили последний удар.
Начальник артиллерии Сорбье усилил огонь центра тридцатью шестью орудиями гвардейской артиллерии и сорока девятью конными орудиями корпусов Латура, Мобура и Нансути. Эти громадные батареи стали громить войска Остермана и принца Виртембергского, находившиеся в центре, а сзади готовился молот, который должен был ударить по слабому центру русской армии и разбить ее на две части – там в боевые колонны строилась Наполеонова гвардия.
Великий полководец опять овладевал боем, и насморк и головная боль стихали; он чувствовал, что залог победы: «Быть в решительном пункте, в решительный момент сильнее неприятеля» – скоро будет в его руках. Обдуманно отдавались приказания, и уже виделась победоносная российская армия разбитая, как некогда под Аустерлицем и Фридландом, – но там могли на немцев сослаться, а тут немцев не было…
Но были казаки! Казаки со своим Платовым и гвардейская легкая кавалерия с Уваровым выручили всю армию. Из корпуса вице-короля к Наполеону стали являться ординарцы, адъютанты и курьеры с донесениями, что тьмы казаков и гусар налетели на обоз, смяли бригаду Орнано, часть войска вице-короля и вот-вот обрушатся с тылу на армию, и тогда что будет! Это роковое известие непостижимым образом распространилось по войскам, и с тревогой оглядывались солдаты и офицеры назад, ожидая ужасной атаки с тылу.
Наполеон сомневался, но его уверяли, и он бросил свое место в самый решительный момент боя и поскакал на левый фланг.
Бегущие солдаты и прислуга, несущиеся без толку повозки показали Наполеону, что беспорядок велик и надо его прекратить. Пришлось отвлечь свое внимание от центра – дивизия Порэ и Вислянский легион Кланареда беглым шагом устремились на казаков.
Удобный момент пропал. За эти два часа суеты и отвлеченного внимания делами в тылу войска центр усилился войсками правого фланга и резерва, и промежуток, образовавшийся было между батареей Раевского и Семеновским – ахиллесова пята нашей позиции – был занят.
Наполеону оставалось одно: рискнуть своей гвардией и доконать утомленного врага. Но на просьбы маршалов об резерве, на уверения в победе в случае поддержки Наполеон благоразумно ответил:
«Je ne ferai pas demolir ma garde. A huit cents lieues de Prance, on ne risque pas sa derniere reserve»[47] – и Наполеон прекратил атаку.
Кутузов тоже мог послать всю армию и выиграть сражение, но ему надо было выбирать одно из двух: Москву или армию – и он избрал армию.
К вечеру бой постепенно стих: солдаты заночевали на позиции, уверенные, что завтра начнется новый бой.
Казаки вернулись на старый бивуак. С четырех часов утра и до семи вечера они были на ногах, большинство верхом, много скакали, много прошли и мало ели. Лица были пасмурные, недовольные: от поиска в обозы ожидали больше.
Платов, которому опять нездоровилось, слез с коня и, надевши свой халат, продиктовал рапорт о Бородине Лазареву и собирался лечь спать, как вдруг полог палатки приподнялся, и атаманского полка хорунжий Владимиров, бивший в этот день ординарцем при главнокомандующем, вошел в нее.
– Ваше высокопревосходительство, – сказал он, – его светлость требуют ваше высокопревосходительство к себе.
– А ну его, – проворчал Платов, – чего еще им надо! – и стал одеваться.
С Платовым поехал Коньков. Было темно. Люди молча сидели у костров, изредка переговаривались отрывочными фразами, вспоминая, кого убили, кого ранили. Платов с ординарцем часа два пробирались, ища главнокомандующего. Кутузов сидел в избе за белым тесовым столом перед кипящим самоваром. На столе валялись бумаги, карты, конверты. Несколько офицеров генерального штаба и Уваров были тут же. Уваров был красен и надут: за тот поиск, который должен был дать ему большую славу и большие награды, Кутузов его разнес. Он находил, что гвардейская кавалерия и казаки могли сделать гораздо больше, могли решить победу в пользу русских и тогда не надо было бы отступать!
– Казаки! – сказал Уваров. – Казаки только грабили. У них нет дисциплины, они не могут действовать как порядочное войско. Это была толпа мародеров, а не кавалерия!
– Что же вы не сказали атаману?
– Атаман, ваша светлость, был пьян в этот день, – раздался чей-то свежий молодой голос из группы адъютантов и офицеров генерального штаба[48].
Кутузов недовольно оглянулся и послал ординарца за Платовым.
Атаман не скоро приехал. Адъютанты острили: «Пока проспится – не скоро дело будет».
Наконец он явился, как всегда, в мундире, при орденах, в кивере, улыбающийся, готовый отражать нападки.
– Что вы там наделали, ваше высокопревосходительство? – хмурясь, спросил Кутузов.
– Вы изволили получить мой рапорт, ваша светлость!
– Знаю я эти рапорты. По рапортам одно, по донесениям тоже очень хорошо, а на деле грабеж, мародерство, безначалие… Что же это такое, войско или орда?
Платов потупился. Действительно, грабежом увлеклись немного. Но разве это такая беда?
– Точно, обозы пощупали, ваша светлость, но ведь я то, я вам скажу, где же казаку и взять в военное время себе справу? День и ночь на аванпостах да в партиях, поизносились, поистерлись, тоже, я вам скажу, надо и то в толк взять, что снабжают нас плоховато… Одежу имеем свою, а в военное время скоро ли из дома-то получишь. Я вам скажу, как и не позволить казаку пошарить, где что плохо лежит.
– Отлично! Значит, вы поощряете мародерство?
Не любил этого слова Платов. Мародерство могло быть у солдат, которых нельзя остановить во время грабежа, а казаки – другое дело.
– И потом, – добавил Кутузов, единственным сонным глазом впиваясь в донского атамана, – почему ваш корпус так широко хозяйничал в тылу за Беззубовом, не мог пройти дальше, не мог отвлечь внимание Наполеона на более долгое время. Вы могли решить победу!
– Я вам скажу, ваша светлость, что войска вице-короля выступили в защиту тыла, а без пехоты и артиллерии я не мог по ним действовать на столь пересеченной местности.
«Изворачивается, старая лиса», – думал Кутузов, и хотелось ему разнести в пух и прах атамана, попрекнуть его пьянством, приписать ему неуспех всего сражения. Но регалии на мундире Платова заставляли его сдерживаться.
– Все это так, – задумчиво проговорил Кутузов, – Но, ваше высокопревосходительство, я нахожу, что вам хотя в дни битвы и генеральных сражений надо быть невоздержней.
Вспыхнул атаман, хотел возразить главнокомандующему, хотел сказать ему, что он не смеет ему говорить такие небылицы, хотел он нарвать уши всем этим мальчишкам, что перемигивались и пересмеивались в углу, да вспомнил, что этим поставит он «войско в размышление, а себя в сокрушение».
Потупился только атаман, и грудь его стала неровно вздыматься от незаслуженного оскорбления.
– Завтра армия отступает. Ваш корпус остается на старом месте, в помощь вам я дам два егерских полка и тобольцев с волынцами. Да смотрите, ваше высокопревосходительство, – возвышая голос, договорил Кутузов, – чтобы я отступил спокойно и без потерь и боев. Быть может, я дам сражение под Москвой, силы армии нужны будут, нужен будет и отдых – вы должны мне его обеспечить.
Недовольный возвращался Платов из квартиры главнокомандующего.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… Ну, наварили на Маланьину свадьбу, нечего говорить, хорошо удостоили! Их центр, слышно, спасен нашей атакой, а он, на-поди!.. Наполеона хотел взять голыми руками – извольте разрешить задачу: с шестью казачьими полками да четырьмя пехотными задержать наступающую после полупобеды армию».
Не мог успокоиться, не мог заснуть Платов в эту ночь. Бледное утро осветило побоище, осветило ряды трупов, сломанные лафеты и повозки, брошенные укрепления. Русская армия отступила. У французов все было тихо. Они чистились и оправлялись после боя. Казаки остались на бивуаке, поделили добычу и вдруг одиноко почувствовали себя без армии, без поддержки, лицом к лицу с неприятелем.
Теснее сжался арьергард, эта маленькая кучка перед великой армией.
А на другой день, двадцать восьмого августа, начался бой. Егеря Розена выслали цепь, казаки маячили лавой – но их теснили и они, сражаясь целый день, то кидаясь в атаку, то спешиваясь и стреляя, цепляясь за каждый куст, за каждую балку, отступали к Можайску.
Под вечер Платов написал главнокомандующему о положении дел: «Неприятель перед нами и в силе: по объявлениям же от взятых нами пленных, здесь сам Наполеон, Мюрат, Даву и Ней и вся та кавалерия, которая была 26 числа сего месяца у деревни Бородина. Я с арьергардом, по прекращении целодневного сражения, расположился, вышедши из леса, на высоте примерно от Можайска верст 15. Завтра, что последует, имею долг донесть»…
Если бы Платов мог видеть, какой эффект произвел его рапорт в главной квартире, он бы, наверное, поставил себя «в размышление, а войско в сокрушение».
Дело в том, что: «примерно от Можайска верст 15» – выходило, в действительности, от главной армии версты три – какое же значение мог иметь такой арьергард? Какое спокойствие могло быть в армии, стоящей в трех верстах от неприятеля?!
– Нет, – сказал Кутузов, – он стар, и походы его слишком истомили. Ему нельзя командовать арьергардом.
В тот же день Платов получил предписание сдать свой корпус графу Милорадовичу.
Собрал своих детушек атаман, слезно простился с ними, обнял ординарцев, поцеловал Конькова, сел в кибитку и помчался на Тихий Дон.
– Стар я, говорят, сил нет… Посмотрим! – ворчал себе под нос донской генерал. – Подыму весь Дон от старого до малого и соберу такие силы казаков, от которых Наполеон убежит совсем вон из России. А ежели который найдется смышленый казачишка, что самого Императора французов в плен возьмет, – отдам ему в замужество дочь свою богоданную! Вот как будет… Посмотрим, кто из нас старье!
XV
…Тебя непременно спросят: «А что у вас на Руси?» Удивительно! Казаки будто не считают себя русскими, и в то же время целые полки их берегут Россию. Они стоят за Русь, они ее дети – все, от атамана до простого казака, – они русские; в них тоже православная вера, тоже рвение за честь Царя, но все спрашивают: «Вы русский? Вы из России?..» Странно!..
А. Филонов. Очерки Дона. Стр. 3, 4В ясное сентябрьское утро Коньков явился к новому арьергардному начальнику.
Милорадович, красивый молодой генерал, с открытым умным лицом, бойкий и веселый, сидел на лавке перед деревянным столом и что-то писал. Одет он был в мундир, во всех орденах, был при сабле. Шляпа с высоким пером лежала подле, шпага была одета, подбородок тщательно подбрит, изба была пропитана ароматом духов – это был щеголеватый гвардеец, собирающийся на бал, а не начальник арьергарда армии, стесненной обстоятельствами и принужденной отступать. Впрочем, Милорадович был всегда таков – подобно Мюрату, этот Баярд русской армии любил пышно одеться, любил пронестись на борзом коне вдоль позиций, закутанный в драгоценную шаль.
– А, господин хорунжий, пожалуйте…
– Ваше сиятельство, честь имею явиться… – начал было Коньков, но Милорадович перебил его:
– Все это я знаю, – а вот ваше имя и отчество?
– Петр Николаевич, ваше сиятельство.
– Ну вот, садитесь, дорогой Петр Николаевич, сюда. Сядем рядком и потолкуем ладком.
Коньков не хотел было садиться, но новый начальник за рукав притянул его к скамье.
– Ну, как у нас казачки поживают?
Это «казачки», презрительно-уменьшительное, покоробило ординарца донского атамана.
– Донские казаки, ваше сиятельство, жаждут чести еще раз сразиться за Москву, первопрестольный град, и грудью отстоять ее.
– Ну, этого не придется. Мы сдаем Москву.
И, как бы желая отделаться от тяжелых мыслей, он со свойственной ему живостью переменил разговор:
– Вы ко мне ординарцем назначены? Какой молодой – а уже и Анна и Владимир… Где это вы?
– Анну, – слегка оживляясь, отвечал Коньков, – получил я за Кореличи и Мир, а Владимира – за Молево болото.
«Ну что я еще буду говорить с ним, – думал Милорадович. – Хотя он и очень молодой человек и не слишком дик, но о чем говорить, право, не знаю…»
– Теперь можете быть свободны, а в одиннадцать часов явитесь за приказаниями.
Коньков вышел.
«Нет, – думал он, – этому куда же до Матвея Ивановича. Стелет-то мягко: «вы» да «вы», «пожалуйста», а какой с этого толк?»
Толку казакам действительно не было. Днем их передовое место заняли гусары и драгуны, а казаки были отозваны в тыл, но настала пасмурная, дождливая ночь, и казачьи полки по-старому вытянулись аванпостами у неприятельских бивуаков.
– Ишь ты, только, видно, на черную работу и годимся. Нет того, чтобы поручить какое-нибудь дело!
И полковники не торчали, как прежде, целыми днями в главной квартире, беседуя с Платовым и обучаясь у него военному делу и казацкой хитрости. Они сидели по полкам своим, хмуро смотрели, как гибли от простуды лошади и люди, и недовольно отступали. У них в эти тяжелые осенние дни не было такого ужасного чувства страдания при потере Москвы, какое испытывал всякий русский, для них Москва не являлась столицей родины, они готовы были сражаться за нее и умереть, но только по чувству долга, по своей обязанности.
Из казаков-ординарцев Милорадович оставил при себе одного хорунжего Конькова, особо рекомендованного ему Платовым. Скучно было молодому казаку среди чужих ему людей, без атамана, по-родному относящегося к нему. Милорадович был утонченно вежлив, но не допускал ни малейшей фамильярности, и Коньков, кроме как по службе, ни о чем с ним не разговаривал. Остальные ординарцы, эта плеяда искушенной опытом золотой дворянской молодежи, пылкой и легко увлекающейся, имела свой сплоченный кружок и не приняла в него казака. Впервые понял Коньков, что ни славные победы в минувшие войны, ни историческое прошлое Дона в глазах некоторых людей ничего не значили. Эти самые «сиповские» офицеры, которых он не Бог весть как уважал, смотрели на казаков полупрезрительно, именовали их «казачки» и признавали, что донцы годны только на черную работу, в разъезды, на аванпосты и для охранения транспортов и обозов. Не признавая за казаками военного образования, они отдавали должную справедливость их сметке и находчивости, и каждый из них старался иметь у себя в услужении или на ординарцах казака. Когда они узнали, Что Коньков рядовым казаком начал свою службу, что он даже не уверен в том, дворянин он или нет, что родной дядя его служил в сипаевском полку урядником, а брат – дьячок в Вешенской станице, они стали его слегка сторониться, и прозвищем его стало «брат дьячка».
Коньков часто слышал, как один у другого спрашивал: «Кто сегодня при князе ездит? – «брат дьячка»? И не мог понять Коньков, что же унизительного, что худого в том, что он брат дьячка. Но натянутость отношений чувствовалась, и Коньков держался уединенно.
Чтобы понять такие отношения, надо посмотреть, какая и действительно была рознь между донским казачьим офицером и офицером регулярным.
Офицер павлоградского, северского и других регулярных полков имел свое родовое имение с двумя-тремястами крепостных, имел с него доход, который проживал в кутежах, дорогих обедах и охотах. Солдат был его раб. Он был далек от него, он был сравнительно с ним «белой кости». Он мог служить ему примером, учить его, «снисходить» до разговора с ним, но стать с ним наравне не мог. Он кончил университет, в худшем случае – корпус или пансион, французский язык был ему знаком с детства: он был образован. Он шел служить потому, что его прельстил военный мундир, потому что в нем пылал патриотизм, желание славы, наконец, потому, что дворянину принято служить в рядах офицеров русской армии.
Не то совсем было у офицеров войска Донского. За исключением богатой и высокообразованной аристократии лейб-казачьего и частью атаманского полков, тянувшейся за регулярными, проживавшей сотни тысяч, имевшей такие же замки-поместья, крепостных, задававших балы и обеды, гремевшие по всему войску, за исключением их все остальные были народ небогатый. Заурядный офицер войска Донского имел именьице у себя, тут же, на Дону, необширное, плохо обработанное за отсутствием крепостного труда. О роскошных барских домах и затеях бар крепостного времени он и не слыхивал. Его отец провел всю жизнь в боях: дрался и с турками, и с калмыками, и с кавказцами, ходил с Суворовым в Италию, делал походы с Краснощековым в Пруссию, дрался против Пугачева и Разина. Кровавые предания передавались из рода в род – от отца к сыну, от деда внуку – с тяжелой, острой как бритва, дедовской шашкой. Боевые песни убаюкивали его младенцем, боевые, тягучие, полные восхваления воинских подвигов песни слышал он и от станичных стариков, перед которыми играл на улице в айданчики. Верховая езда и стрельба из лука и ружья – была его школа, а старая протертая Псалтирь, преподанная кривым пономарем станичной церкви, была его наука. Он с детства болтал по-татарски, а иногда и по-турецки с пленными ясырками, оценивал лошадь по первому взгляду и ездил на ней без школы, без правил, правильно и умело. Юношей охота в степи, метание дротика делали его смелым и метким. Тринадцати, много пятнадцати лет он поступал простым казаком в служилый полк и нередко с места уходил в поход. Это была его военная школа. Здесь на практике проходилась и топография, и тактика, и артиллерия, и фортификация. Без карты и компаса донской офицер ориентировался на незнакомой чужестранной местности, без устава водил сотню, то раздвигая ее в лаву, то смыкая в колонны. Без понятия о траектории и сопротивлении воздуха заряжал и стрелял из орудий. На походе старый урядник, а то и бывалый офицер посвящал молодежь во все тайны военного искусства. Сметливый и любопытный от природы, он живо подмечал все нужное и накоплял себе новые и новые знания. За отличие или «по протекции» его производили в урядники, а потом и в хорунжие. Он надевал эполеты и жгуты из серебра; «из дома» старушка мать справляла ему тонкого сукна синий мундир, казаки ему снимали шапку, но видели в нем не человека «белой кости», не что-то высшее, благородное, а своего брата казака, отличенного за службу Государем. У него и товарищи были наполовину казаки.
Вечером в среду песенников, входили и офицеры, и они пели те же песни, потому что не знали других. Их грозно-унылый, с детства привычный донской напев был им дороже всего.
Коньков принадлежал к числу таких офицеров.
Петербургская жизнь немного обтерла его, отшлифовала, но в душе он остался простым, глубоко верующим, сердечно любящим казаком. И трудно ему было сойтись с ординарцами Милорадовича, любителями в картишки поиграть и нечисто поговорить про женщин, а Конькову, у которого все женщины воплощались в одной Ольге Клингель, тяжелы были такие разговоры.
Один ему понравился более других, и с ним он иногда разговаривал. Звали его Владимир Константинович Воейков. В нем было то же, что и в Конькове, такая же сентиментальность, любовь к природе, к лошади, к старухе матери, новгородской помещице, и к двоюродной сестре, имени которой он никогда не называл. И красив он был так же, как и Коньков, хотя красота его была в другом роде, нежная и чистая. Он сильно напомнил своими манерами и, главное, тихим голосом Ольгу Клингель, и Коньков стал искать дружбы с ним. Воейков не отказывался, но и не навязывался. Иногда вечером, когда в квартире Милорадовича все утихнет, они гуляли вдвоем и рассказывали свои приключения. Коньков, благодаря трем походам, которые он одолел, оказался гораздо развитее, зато Воейков брал образованием и начитанностью.