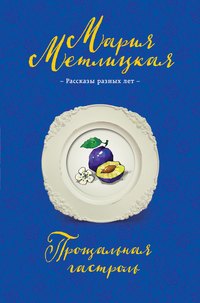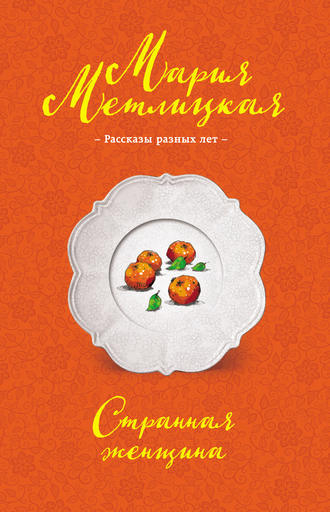
Полная версия
Странная женщина (сборник)
– Да чем ты похожа? – махнул рукой он. – Глазами и овалом лица?
– Многим, – отрезала она, – я-то знаю!
– Слушай, – примирительно сказал он, – а давай не будем про них? У них своя жизнь, а у нас своя. И мы будем счастливы, слышишь? Назло всем врагам!
– Да какие враги, – устало отмахнулась она, – просто несчастные люди.
Потом ей не раз приходилось слышать, что женщина, выросшая в несчастливой семье и воспитанная несчастной матерью, счастливой быть не может. По определению, как сейчас говорят.
Выяснилось, что да. Подтвердилось. Жизнью и жизненным опытом. И она все думала про свою дочь: ей что, тоже такая судьба? Дочь повторяет судьбу матери. Несчастная мать – несчастливая дочь. Обязательно так? И этот порочный круг не разорвать никогда? Ах, она бы на все согласилась – на любую сделку с совестью или с дьяволом – только бы ее Наташка была счастливой. За всех – за нее, за ее мать, за ее бабушку Дашу.
А дочке было уже к тридцати. Ну нет, неправильно. Двадцать пять – это никак не к тридцати, что за глупость! Кавалеров у дочки было как-то не густо. Может, и хорошо? Только странно – дочка хорошенькая, длинноногая, остроумная и веселая. Почему же?
Лето закончилось, и они понимали, что встречаться так часто им уже не придется. Во-первых, учеба, во-вторых, мать возвращается с дачи, и все – свободной квартиры у них больше нет.
И все равно они встречались ежедневно. Пусть на полчаса, пусть в перерывах между лекциями, пусть коротенько у метро: «Я только поцелую тебя, и все! Чмокну в нос, и до завтра мне хватит!»
Иногда появлялась какая-нибудь случайная комната или квартира, они летели туда, забыв обо всем, – пусть пару часов! И наплевать, что на чужих простынях и подушках! На все наплевать. Потому… Потому что она будет чувствовать его запах, будет лежать у него на груди, будет целовать его смуглое и гладкое плечо и чуть покусывать его темный и твердый сосок.
А он – он будет говорить ей такие слова… Что всю следующую ночь она просто не сможет спать, вспоминая эти бесстыдные, «ужасные» слова, и ей будет так душно и так сладко… Ну, все понятно. Что тут объяснять?
К зиме они поняли, что даже на день расстаться нет сил.
– Надо жениться! – твердо сказал он. – Так больше продолжаться не может!
Это была фраза из какого-то фильма, и они дружно расхохотались.
Решили так – сказать обо всем родителям, перезнакомиться и выбрать день свадьбы. А еще лучше – без всяких свадеб, без всей этой суеты, колготни и маразма. Взять билет и уехать вдвоем. Куда? Да, например, в Питер. Или в Прибалтику, в Ригу. Или в Вильнюс – какая разница?
Вдвоем – на поезде, под запах уголька, под дребезжащий звук чайных стаканов. Под мерный стук колес и сердец. Здорово, да? Да нет, не просто здорово – сказочно здорово и нечеловечески прекрасно. Вот так. Где там жить? Это, конечно, вопрос. Вопрос советских времен – неразрешимый почти, глобальной какой-то сложности.
Но она сказала, что наверняка поможет отец – у него везде связи. Ну, закажет какую-нибудь гостиничку для командированных, из дешевых.
Он сказал, что уже сообщил матери про их планы. Мать, конечно, разохалась – рано, господи, ты же совсем ребенок! Поплакала даже. Но потом успокоилась и даже обрадовалась – все лучше, чем ждать тебя по ночам!
Теперь пусть волнуется законная жена. Передаю из рук в руки. Надеюсь, в надежные, ох… Хотя какие там надежные. Девочке-то восемнадцать лет!
Он засмеялся:
– Ты не знаешь ее. Там серьезности – на троих. Маленькая такая старушечка с очень серьезным взглядом на жизнь!
Теперь засмеялась мать.
– Ой, ну ты скажешь! Серьезности много! А если это действительно так, – тут мать запнулась, – то я ее уже боюсь, Сашка!
Мать была человеком легким и даже беспечным. Легкомысленным. Например, с получки могла «покупечествовать». Что это значило? Да накупить всяких дорогих вкусностей в кулинарии – пирожных, салатов, запеченного мяса. Могла шикануть и по-другому – купить две пары дорогущих гэдээровских колготок или французские духи – за немыслимые двадцать пять рублей. Или «урвать по случаю» – а тогда все было по случаю – в комиссионке шикарную итальянскую юбку из твида. Или пару импортных туфель – чуть сношенных, но все равно замечательных.
Он удивлялся:
– Мам! А как мы доживем до аванса?
– Как-нибудь, – отмахивалась мать, – и вообще, не порть мне радость. И счастья не отнимай!
Доживали, правда. Не было денег – пекли блины и жарили картошку. На это всегда хватало. Он думал – а мать-то права. Умеет человек устраивать себе праздник, и правильно! А лишний кусок колбасы – это мы точно переживем.
И уже в десятом классе не чурался работы – перебирал овощи на базе, разгружал вагоны на Курском, потом устроился туда же носильщиком – и это были очень приличные деньги.
Он очень любил мать и очень жалел. Ему казалось, что она так и осталась маленькой девочкой, не понимающей жизни. А это, наверное, ее и спасало. Про короткий роман с его отцом она особенно не распространялась. Он понял одно – ее, мать, отец очень любил. Но жениться не стал – предпочел девицу из номенклатурной семьи. И карьеру свою не провалил. А вот был ли он счастлив – да кто там знает. Да и какая им с матерью разница?
Владу он привел к матери в пятницу, а в субботу решили, что пойдут в дом ее родителей.
– У меня будет пострашнее, – честно сказала она.
С его матерью она тут же нашла общий язык – болтали весь вечер без остановки. Солировала, конечно, болтушка-мать, но и его сдержанная, казалось, любимая тоже не отставала.
На прощание они обнялись, и мать сказала, что она ей очень рада.
Он был совершенно счастлив, глядя на двух своих самых любимых женщин.
Он проводил Владу до дома, и было решено, что они созвонятся – насчет завтрашнего «приема». Было видно, что она здорово нервничает, он ее утешал и обещал, что все будет тип-топ. Ну а если ее родители будут против – это ведь ничего не меняет, правда? Они все равно будут вместе. И нет такой силы, которая сможет их разлучить. Просто нету, и все!
Наивный. Он не знал тогда, что есть эта страшная сила. Есть! И она уже совсем рядом. Близко. Почти за углом. Точит свой острый нож, чтобы вонзить его в сердце. Сначала – в его, а следом – в ее, Владино.
Чужие люди
В субботу утром, за завтраком, она торжественно объявила, что собирается замуж.
Мать притихла, окаменела и только смотрела на отца – сама новость не так взволновала ее, как волновала, впрочем, как всегда, реакция мужа.
Отец со стуком поставил чашку на стол и тяжелым взглядом уставился на дочь.
– Замуж, значит, собралась, – тихо сказал он, – выросла, значит. Созрела.
Влада кивнула.
– А что женишок? Тоже из сопливых?
Влада пожала плечом:
– А какая разница, сколько ему лет? Главное ведь не это.
– А что главное, дочка? – осторожно спросил отец. – Наверное, чувства? Любовь, так сказать?
Влада кивнула:
– Да. Чувства.
– Ага, – удовлетворенно проговорил он, – ну, а все остальное?
Она пожала плечами:
– А что ты имеешь в виду?
– Я? – грозно спросил отец. – Я, милая, имею в виду, собственно, все! Где вы будете жить, например. Что будете есть. Во что одеваться. На что, кстати, будете свадьбу гулять. Достаточно?
– Все решено, – отрезала она, – никакой свадьбы не будет. Лично нам эта гулянка совсем не нужна. Жить будем у Саши – мы так решили. И его мама не против. А насчет денег ты, папуля, и не волнуйся – Саша работает, да и я устроюсь куда-нибудь. Не пропадем.
– Ага, – опять удовлетворенно протянул отец, – значит, не пропадете? И свадьбы не надо, и курорта не надо? И вообще ничего не надо – у вас же все есть, я так понимаю?
Она подняла на него глаза.
– Возможно, у нас многого нет. Ты прав. Но у нас есть главное, понимаешь? А все остальное – приложится. Наживется. Да и не надо нам многого. Теперь все понятно?
– Понятно, – спокойно ответил отец. – Мне-то понятно. А вот тебе!
Она махнула рукой.
– Моя жизнь, и я сама буду ей распоряжаться!
Встала, чтоб выйти из кухни. У двери обернулась.
– Да, кстати, мам. Подумай про завтрашний ужин.
Мать посмотрела на отца. Тот усмехнулся.
– Ну, раз ты такая у нас… самостоятельная, тогда ты и думай. Правильно, мать?
И та покорно кивнула.
«Чужие люди», – подумала Влада.
Совсем чужие! Не беда, не горе – просто очередная порция боли. Переживем.
Перед самой смертью мать попросила у нее прощения.
– За что? – спросила дочь.
– А за все, – ответила мать, – за все, Владка, за все. И за тот ужин, в частности.
Впервые она задала матери вопрос, который мучил ее всю жизнь:
– Мам, а почему ты терпела?
Она ждала, что мать скажет: любила!
И это бы все оправдало. Ну, или хотя бы – частично. Но мать ответила по-другому: боялась, что он уйдет. Уйдет и оставит меня с детьми. И как я вас вытяну? Обоих? Без специальности? Чтоб вы голодали и нуждались – да никогда. Лучше уж я буду терпеть!
Она посмотрела на мать с такой жалостью, что та заплакала. Вернее, заплакали обе.
Потом, после ее смерти, она, конечно же, ее простила. Вспоминала ее жизнь и только жалела – злости совсем не осталось, ни капли. Голодное детство, война. Парусиновые туфли на бумажной подошве, подмалеванные зубным порошком. При дожде подошва размокала и отваливалась, а ноги окрашивались белым… Она боялась! Боялась всего – голода, одиночества, отца. А страх – это самая сильная мотивация. Вот и ответ.
А нам все равно!
Утром в субботу Влада торчала на кухне. Меню ее было простым – жареная курица с картошкой и свежий салат. Вряд ли вообще у кого-то из приглашенных прорежется аппетит при виде ее папашки с перекошенной физией и пришибленной мамаши с головой, втянутой, как водится, в плечи.
Ровно в семь раздался звонок. На пороге стоял Саша и его слегка перепуганная и взволнованная матушка. У любимого в руках были торт и цветы.
Отец сидел в кресле и почитывал газету. К ужину он так и не переоделся – треники и старая байковая рубаха. Мать сидела на стуле и испуганно, исподтишка, поглядывала на «хозяина».
Хозяин не поднимал головы.
Гости вошли в гостиную и замерли на пороге.
– Мама, отец! – запинаясь, объявила непокорная дочь. – К нам гости! Вы не заметили?
Отец поднял голову, сдвинул брови и медленно, нехотя, стал выбираться из кресла. Мать тоже встала и ждала, что будет дальше.
Отец подошел к растерянным гостям и, внимательно их разглядывая, медленно проговорил:
– Ну что ж… коли так – проходите.
Сели за стол.
Молчание было ужасным, невыносимым.
Потом отец крякнул и достал из горки бутылку. Разлил по рюмкам коньяк, положил в тарелку салат и грозно сказал:
– Ну, деваться-то некуда. Что, мать, – он сдвинул брови, и мать вздрогнула, – дочь пропиваем?
Она видела, как застыла будущая свекровь, испуганно взглянула на сына и нерешительно опрокинула полрюмки, зацепив вилкой кусок огурца.
Саша улыбнулся и протянул рюмку будущему тестю:
– Чокнемся?
Отец прищурил рыжий рысий глаз.
– Думаешь? – спросил он.
Саша безмятежно кивнул.
– Ну, попробуем, – согласился отец.
Отец чокнулся зло, громко. Но Саша опять улыбнулся. Ей, Владе, – ничего, детка. Прорвемся. Их ведь в конце концов тоже можно понять!
А разговор не клеился. Хотя отец вдруг сказал матери:
– Оль! Ты чего зажала грибы и огурцы? Доставай!
Мать тут же вскочила, закивала и бросилась на кухню.
Молчание тяготило, а отец словно наслаждался этим. Потом и ему надоело, и он обратился к Сашиной матери:
– Ну что, сватьюшка? Берешь к себе на постой?
Сашина мать растерянно улыбнулась.
– Беру. Куда денешься!
– А зря! – вдруг крякнул отец, откидываясь на стуле. – Зря, матушка. Ошибаешься!
Все замерли, ожидая чего-то ужасного.
– Зря, – повторил он, – раз уж решили – пусть сами! Сами, как мы. По баракам, подвалам. Да где они, эти подвалы? – с сожалением, словно расстроившись, вздохнул он. – Ну, тогда – в коммуналку. Снимут пусть угол и там, – он осклабился, – пусть наслаждаются!
Сашина мать удивленно спросила:
– Зачем же? Зачем эти муки? А разве вам не будет приятно, если у наших детей будет легче, не так, как у нас?
Он усмехнулся.
– Приятно? – повторил он, качая головой. – Приятно? А почему должно быть приятно? А? Приятно, надо ж – приятно! Должно быть непросто. Вот так! Тогда, может быть, – он запнулся, вспомнив что-то свое, – тогда, может быть, и из них что-то получится.
– Пап, – не выдержала Влада, – ну, может быть, хватит? Хватит, а? Да и потом, – она усмехнулась, – ты, генеральский сынок, много ли жил в коммуналках? И вообще – ведь все равно ничего не изменится! Мы любим друг друга и все равно будем вместе. Давай как-то… по-человечески, что ли?
Отец, уже хорошо принявший, посмотрел на нее тяжелым, недобрым и осоловевшим взглядом.
– По-человечески? – повторил он. – А вы с нами? По-человечески? Решили втихушку. И свадьбы им не надо, и путешествия свадебного. Умные какие! Всем, значит, нужно, а им – нет! Им, гордецам, ни к чему! А знаешь, дочка, почему ты туда стремишься? Туда, в замуж? А?
– Почему? – одними губами спросила Влада, понимая, что скандала не избежать. Она слишком хорошо знала родителя. – Ну, и почему же?
– Да потому! – Отец встал со стула и хлопнул ладонью по столешнице так, что жалобно звякнули рюмки. – А потому, что спать тебе с ним очень нравится! Вот почему! Думаешь, так будет всегда? И ты тоже так думаешь? – повторил он, уставившись на будущего зятя.
Саша дрогнул и кашлянул.
– Вы, Виталий Васильевич, как-то все… не так понимаете. Я люблю вашу дочь. И помешать нам не сможет никто, – твердо добавил он.
– Ну и люби себе! – неожиданно миролюбиво ответил отец. – Лезь в ярмо, раз мозгов нет. В девятнадцать-то лет! – И рассмеялся. – А ты дурак, парень. Какой ты дурак! На что семью содержать будешь? Твоя-то не привыкла на пустой картошке сидеть. Сапожки любит, туфельки. Платьица разные. А ну как заненавидит тебя через год, когда совсем скучно станет? Эх, сопличье вы зеленое. Совсем отбились от рук. Свободы у вас слишком много. Хочу – женюсь, захочу – разведусь. Женилка выросла, да?
Саша покраснел, и Влада поняла, что он сейчас ответит. Ответит ее отцу, и все тут же рухнет, рассыплется, сломается мигом.
– Пап, – глупо хихикнула она, – ты ж не на партсобрании. И не в горячем цеху. Слезь с трибуны и давай просто поговорим. Как люди, слышишь! И хватит всех пугать, папа. Не страшно, честно!
Она выпалила все это одним духом и тут же испугалась – с папашей такие штучки не очень-то проходили. Услышала, как тихо охнула мать.
– И ты дура! – с удовольствием добавил отец. – Еще дурее его. Куда ты лезешь? К свекрови под бок?
Саша резко встал и коротко бросил:
– Хватит! Мам, и ты, Влада. Давай собирайся. Поедем домой. Достаточно унижений и хамства. Наелись, спасибо! А вы, не очень уважаемый будущий тесть, и отца народов, наверное, почитаете? Вот при нем был порядок, а?
Он пошел к двери, и его мать поспешила за ним. Влада стояла как вкопанная.
– Ну? – ухмыльнулся отец. – Что застыла? Беги, догоняй! Обживайся. Может, не выгонят. А Сталин, сопляк, лично мне ничего плохого не сделал. Усек? – выкрикнул он в коридор.
Она вздрогнула, словно очнулась, и бросилась в коридор.
Громко хлопнула входная дверь. Отец чертыхнулся, а мать громко охнула и села на стул.
Он посмотрел на жену и спросил:
– Что, недовольна?
Она не ответила и громко заплакала. Кого она жалела сильнее, ее слабая мать? Себя или свою непутевую дочь? А она и сама не понимала. Просто было очень горько и страшно. И все. Даже ей, такой привычной ко всем этим семейным кошмарам.
Домой они ехали молча. Только Татьяна Ивановна, Сашина мать, периодически гладила ее по руке.
– Устаканится все, детка! И не такое в жизни бывает. Ты мне поверь, я через такое прошла…
Влада молчала. Молчал и ее нареченный. Молчал и не смотрел на нее.
В эту ночь они даже не обнимались – Саша отвернулся к стене, вежливо пожелав ей спокойного сна.
Какой там сон, господи! Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, думая о своей нелепой семье, ненавидя отца и трусиху мать и стыдясь перед женихом и свекровью.
Она знала, что отец Татьяны Ивановны и его родной брат прошли через сталинскую мясорубку. Один в лагерях и остался. А второй в пятьдесят пятом вернулся – сломленным инвалидом. И прожил совсем недолго, года два или три.
И бабушка Сашина в ожидании мужа перенесла два инфаркта и скончалась до его возвращения.
Наутро всем было неловко смотреть друг на друга. Но она нашла в себе силы и после завтрака тихо, но твердо сказала:
– Вы их… простите, пожалуйста! А я тут совсем ни при чем. Дети за отца, как известно… Что я могла поделать, слыша все это? Только страдать и краснеть.
Саша посмотрел на Владу, потом подошел к ней и обнял. Она выдохнула, поняв, что все образуется.
Вечером он принес два букета огромных садовых ромашек – ей и маме, – сказал, что купил у метро, у бабули. Потом сели ужинать, и неловкость постепенно исчезала, словно ее и не было.
А дня через три, выйдя из дверей института, она увидела мать. Та стояла, как всегда, в стороне и вглядывалась в толпу выходящих студентов.
– Владлена! – крикнула мать и быстро пошла ей навстречу.
– Зачем ты пришла? – сухо спросила Влада. – Я, знаешь ли, не соскучилась. Ты уж прости.
Мать разрыдалась.
– Отец в больнице! Ему совсем плохо, тяжелый инфаркт.
Влада молчала, опустив глаза. На мать ей смотреть не хотелось.
– И что вам от меня надо? – спросила она, подняв глаза.
– Доченька! – взмолилась мать. – Он… очень просит тебя приехать. Очень, слышишь? Может быть, он, – она помолчала, – попросит прощения?
– Ладно, подумаю, – ответила Влада, – до завтра подумаю!
Она развернулась и пошла догонять одногруппников.
Вечером она сказала любимому, что приходила мать. Тот молча выслушал и спросил:
– И что ты решила? Поедешь?
– А что бы сделал ты? На моем несчастном месте? Ты б не поехал?
– Я – нет! – резко отрезал он. – Никогда!
– А я – да! – так же резко ответила она. – А ты не подумал, если… ну, он умрет. Как мне потом с этим жить?
– Об этом и речь! – воскликнул он. – Ты ведь в нем совсем не нуждаешься. И в извинениях его тоже. Ты… хочешь облегчить свою участь. Совесть свою! Ну, чтобы потом без раскаяния и чувства вины. А это знаешь, как называется? Может, поспоришь со мной? Я не прав?
– Мне наплевать, что ты думаешь по этому поводу. И наплевать, как это все называется. Это мой отец, и он умирает! А тебе… Тебе, прости, незнакомо это чувство, и все. Вот поэтому ты меня осуждаешь и выговариваешь! Или я не права?
Он не ответил. Просто встал и вышел из комнаты. А она осталась. Сидела на чужой кушетке, в чужой квартире, понимая, что из комнаты сегодня не выйдет. И больше всего на свете ей захотелось домой.
Вот чудеса… Дура какая, господи!
Она вышла из комнаты, тихо прошла мимо кухни, где работал телевизор и была, слава богу, прикрыта дверь, и открыла входную дверь. На секунду задумалась, застряла, но, вздохнув, все-таки вышла на лестничную клетку.
В конце концов, она, и только она, здесь принимает решение. Это ее семья! Какая бы она ни была. Ее отец и ее мать. И никто – никто, кроме нее самой, просто не имеет права решать, как ей быть. И еще – осуждать. Ее семью. И даже не самых лучших родителей.
Семья… какая ни есть
Мать, увидев ее, закудахтала, захлопала крыльями и начала подробно рассказывать про отца. Дочь ее перебила:
– Мне это, прости, не так интересно. А завтра – завтра я поеду к нему. Все. Я ушла. Спокойной тебе, мама, ночи.
Мать ойкнула и мелко закивала головой, бормоча что-то, но Влада уже не слышала.
Утром она взяла с собой банки и термос, собранные матерью, и поехала в больницу.
Отец лежал в отдельной палате – большой, светлой, «царской». На тумбочке лежала прозрачная желтая кисть винограда и стояла бутылка боржоми. Отец дремал. В комнату било солнце, в открытую форточку дул свежий ветерок, колыша белую накрахмаленную занавеску.
Она смотрела на бледное, словно подсохшее, лицо отца и думала: «Почему ты такой, отец? Зачем? Я бы так хотела любить тебя. Любить и гордиться».
Он вздрогнул и открыл глаза. Посмотрел на нее внимательно и усмехнулся:
– Пришла?
Она не ответила – только кивнула.
– Правильно, – сказал он, продолжая усмехаться, – женихов-то еще куча будет, а батька один!
– Я думала, – тихо сказала она, – что ты… извинишься.
– Зря, – крякнул он и привстал с подушки, – не за что мне извиняться. А твой соплежуй – дурак! Мог бы… ради тебя… не ответить. Я его, дурака, проверял!
– Зачем ты так? – с мукой в голосе спросила Влада. – Тебе что, нравится меня унижать?
– Если для дела – конечно! Чтобы ты поняла. Ненадежный он, хилый. Не мужик еще, так, суета. Может, вырастет еще, а может, и нет. А пока – пусть сопли утрет, женишок! Не такой тебе нужен. Силы в нем нет, одна прыть. А на ней далеко не уедешь.
– Не тебе судить, – отрезала она, – и решать не тебе!
Она подошла к окну и встала к отцу спиной. Видеть его было мучительно.
В этот момент дверь в палату раскрылась, и она услышала женский голос:
– Виталечка! Как ты? Сейчас повторим кардиограммку, родной!
Она обернулась и столкнулась взглядом с женщиной в белом халате, с высоко закрученной «халой» на красивой, породистой голове.
Та, увидев Владу, тут же запнулась и покраснела.
Влада сразу все поняла – эта баба и есть та самая главврачиха, любовница папаши и его боевая подруга.
Влада взяла со стула сумочку и вышла прочь. У двери она обернулась:
– Ну, при таком-то уходе, я думаю, вы, Виталий Васильевич, скоро поправитесь!
Ей не ответили. Да и что тут ответишь!
На улице она села на лавочку и разревелась. Мимо медленно проходили больные в халатах и пижамах, пробегали резвые медсестрички, мазнув ее равнодушным и быстрым взглядом – что сделать, больница! Горя тут много и много печали. То, что кто-то рыдает, – нормально, не новость, а жизнь.
А он не звонил. Целую неделю – и ни одного звонка. На что обижаться? На то, что она защитила больного отца? За то, что не послушалась его и поехала в больницу? Ну, если все это – повод для смертельной обиды, тогда…
Тут она вспомнила слова отца, и ей сразу стало нехорошо, душно, дыхание перехватило – хилый, сопляк, не мужик.
Разве он не понимает, как ей сейчас тяжело? И где он? Где поддержка? Где – в горе и в радости? Так, как они говорили? Как мечтали, что будет именно так и никак по-другому? А она-то одна. В своей беде, в своей тоске. В своих проблемах.
И она позвонила сама. Наплевав на все: гордость, обида – какая разница? Ей было так плохо, плохо вообще и плохо без него. Да что говорить!
Так не бывает! Ты меня… предал?
Трубку взяла Татьяна Ивановна и веселым голосом сообщила, что он на сборах, в военном лагере. Почему не позвонил? Ну, тоже обиделся. Оба вы хороши – по больному друг друга. Он про твоего отца, ты про его. Молодость – а в ней обижаются насмерть, надолго. Но все, разумеется, перемелется, и будет мука, – пошутила она, – только в дальнейшем… Ты мне поверь – женщина глубже, умнее. И женщина должна уступать. Как-то смягчать обиду. Ну, жизнь тебя, конечно, научит, – беззлобно заключила она.
У Влады чуть не вырвалось: а вас? Научила? И если вы такая умная, то почему вы одна?
Слава богу, сдержалась. А осадочек-то остался! Спросила, где находится лагерь, но та сказала, что, во-первых, адреса точного нет – да, конечно, можно узнать на кафедре, но бесполезно – туда, в лагерь, все равно не пропускают. Такие порядки. А приедет он через два месяца. Ерунда! Вот тогда все успокоится и все забудется. «А пока – жди письма. Напишет, наверное», – не очень уверенно закончила она.
Ни про отца, ни про мать она не спросила – Влада поняла: враги на всю жизнь. Презирают ее родителей и ненавидят. И даже не стараются этого скрыть.
Письма все не было. Она снова звонила Татьяне Ивановне, та отвечала, что у него все нормально. Почему не пишет? Да бог его знает. Мне пару раз звонил – коротко, правда. Связь там ужасная.
– А мне – нет, – грустно сказала она.
Та утешила:
– Ну почем ты знаешь? Может быть, тебя не было дома?
В гости не приглашала, кстати. Ну да ладно. Два месяца – это и вправду не срок. Надо жить дальше и думать о том, что дальше все сложится. Дальше все будет хорошо. А как по-другому?
Отца уже выписали, и мать снова хлопотала возле него. По-дурацки, суетливо и бестолково. Он орал на нее, она убегала плакать, а Влада снова думала, как поскорее уйти отсюда, из постылого отчего дома.