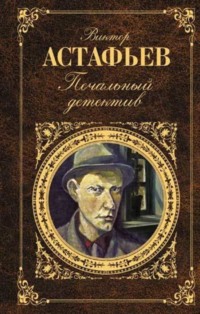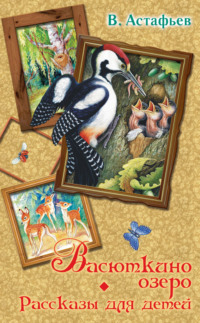Полная версия
Пионер – всем пример
Но сработала лесная сигнализация, и, когда нашли бывшего попа Никодимку, он уже орудовал сучкорубным топором, да так ловко и ладно, что стеклянные от мороза сучки как бы сами собой отделялись от ствола дерева и лохматой грудой зеленели в сугробе. Начальник с налета обыск учинил, ничего не нашел, наладился было заворачивать гавкающего пса вспять, да зорок же, опытен надзорный страж, задрал на Никодимке бушлат – под ним в ватные брюки заправлен подрясник, и под зэковской ушанкой поповская шапочка, на нитке крест под рубаху спущен. «Что это? Откуда это?» – «Еще из дому, из храма божьего, подрясник поддевается для тепла, на груди – крест божий, человек я глубоко верующий, без креста мне никак не возможно», – кротко отвечал бывший попик.
Начальничек режима был заматерелый фашист, однако привык управляться и истязать послушное стадо; что такое клин, расчленение, окружение – он не ведал. Но в бригадах зэков были большей частью фронтовики, они многому научились в тяжких сражениях с иноземными фашистами. Начальника режима и собаку незаметно оттерли от Никодимки со всех сторон объявившиеся лесорубы, рассекли на части и взяли в круг автоматчиков, почти у каждого зэка на сгибе левой руки топор, правая рука сжимает топорище. Попробуй тронь святого человека, вмиг вся команда будет изрублена на куски. Не те времена, чтобы целые колонны из пулеметов выбивать, непослушные бараки зимою из шлангов водой заливать.
– Убери пса, пес! – внятно сказал бригадир.
Отступил начальник, со скрежетом зубов покинул лесосеку, но все же факт крещения людей без отрыва от производства, покровительство бригадира не остались безнаказанными, их судили по заведенному, пусть и недоказанному преступлению, за саботаж, за нарушение лагерного режима. Слова «бунт», «восстание», «контрреволюция» опасались произносить: как бы не накликать беду.
На всякий случай накинули по пятерке и бригадиру, и хитроумному деляге тайному попику. Обоим им посулен был бункер, но Никодимка ночь напролет простоял перед медным складнем, пристроенным в уголке нар, и бог внял его молитвам.
Начальник Севлага, без пяти минут генерал, вызвал к себе чужеприезжего режимника и вручил ему командировочное удостоверение в Ухталаг, где его соратник по труду майор Беспалов наводил порядок в тамошних лагерях.
– Поезжайте, поезжайте, вы там нужнее, здесь мы как-нибудь и сами управимся, охрана и ее начальник многое почерпнули из вашего богатого опыта.
* * *Докатилось. Докатилось и до Севлага – совсем недалеко, всего-то за две тыщи километров, вспыхнуло восстание в Воркуте, руководили восставшими бывшие фронтовики; по оперативным сводкам, и в Казахстане, и по Уралу отозвался гром Воркуты. Темная, но праведная сила, накапливаясь многими годами, не могла она не дать знать о себе. И хотя восстания всюду и везде подавлялись жесточайшим образом, с помощью танков (вот зачем их так много навыпускали в Стране Советов), иначе привыкшим повелевать и не встречать сопротивления вохровцам было не справиться с бунтарями, да и перебили вохру поголовно. По Уралу и в Коми рубили руки тем, у кого они чесались и часто пускались в дело.
Вот отчего начальник Севлага на прощание сказал режимнику загадочно:
– Берегите руки.
Бункер был завален на другой же день бульдозером, разрешена была переписка с родными без ограничений, в лагерях появились ларьки с махрой и кое-какими продуктами, охрана сделалась обходительней некуда, тут и замполит нарисовался, предложил Дроздову написать стишки в многотиражку. «Сможешь?» – вежливо спросил. «Н-ну, в пределах районной газеты и газеты «Правда», наверное, смогу». – «Правду» не чепляй, «Правда» Лениным затеяна, и там все на высшей идейной высоте».
Стихи Дроздов написал барабанные, крикливые, поэтому именно их базланили в праздник со сцены лагерного клуба, перепечатали из многотиражки в райгазете, и так вот одухотворенно и незаметно он попал работать в библиотеку, там интеллигентный, высоколобый зэк, забыв, где и почему он находится, взялся пить и склонил к сожительству помощницу из вольнонаемных, за что и был назначен на этап в штрафное отделение. Место, такое важное и теплое, не могло и не должно было пустовать.
* * *Без особой надсады добил свой срок Антон Антонович Дроздов и, поскольку ехать ему было некуда, решил поселиться на берегу порожистой реки, вытекающей, однако, из глубин и широт местных болот, в деревушке под названием Тяж. Она ему приглянулась еще в те первые послевоенные годы, когда вместе с ордою зэков он шел вперед на север, сбривая с земли ее миллионолетнее богатство – леса. И еще он ведал, знал по судьбам и рассказам братьев по неволе: поезжай хоть куда, везде нынче доля худа. Тут хоть ехать недалече, а еще смолоду засел в его голове стих Кондратия Худякова, немало, знать, повидавшего на своем недолгом веку:
Ты должен сам восстать из прахаИ тьмы духовной нищеты.Ты сам себе палач и плаха,И правый суд себе – сам ты.Многие села, многочисленные деревни оставили невольники-лесорубы на оголенной земле, и те, уже начавшие угасать без леса, без его прикрытия и защиты, отмерли, опустели и куда-то подевались. Но вокруг Тяжа темнели колхозные леса, и, хотя в них пускались похозяйничать разные конторы под названием «Кабардалес», «Астраханьлес», «Ростовлес», все же кое-что и осталось от нашествия варваров, за лес возивших в колхоз «Рассвет» корма скоту, вино руководству, когда и семена, когда и маслишко подсолнечное иль рыбную консерву народу.
Тяж устоял. В семи домах его еще шевелились люди, горел электросвет, работала конюшня, мычал телятник и вокруг, хоть на скорую руку, засевались пшеницей, овсом и льном неширокие, худородные поля.
Помогало то, что центральная усадьба располагалась от Тяжа всего в десяти верстах, и умница председатель, дальновидный человек, как мог, поддерживал жизнь в бригадах колхоза «Рассвет». К нему-то прямо с дороги и направил стопы свои отбухавший положенное, начавший седеть сорокапятилетний мужчина по фамилии Дроздов. Сошлись люди деловые и много повидавшие. Беседа была недолгой.
– С ремонтом дома поможем, печь перекладем, я дам кирпича, в остальном на себя полагайся, пока же поживи у соседки Меланьи, она будет рада живому человеку. Ей не с кем поговорить, а поговорить она большая охотница, на работе – говорит, вяжет – говорит, ест и то говорит, порой и ночью, во сне, чей-то бормочет. Привыкнешь, баба она безвредная. – И уже вдогонку произнес: – Да-а, ведь тебе огород будет надобен, земля под всякие угодья. Ограда там давно упала и сгнила, так загораживай сколь хочешь. Земля теперь, считай, что ничья.
Бабка Меланья оказалась и в самом деле затейливая, все еще пыталась бегать бегом на искривившихся ногах и сыпала, сыпала говорком, ровно откалиброванным, никогда не переходя на крик, тем более на шепот. Она разговаривала с печкой, с ухватами, с ведрами, с коромыслом, с кошками, которых у нее было семь штук, питала она их картошкой, но, когда картошка шла на исход, варила им очистки. Кошки слушали Меланью внимательно, вели себя в дому покладисто, но за пределами его пластались ночи напролет по пустым домам и поветям, бандой забредали на телятник, где велись мыши, ловили их артельно, приели всякую птаху, подвластную им, извели кур в деревушке; на что уж хитра и грамотна ворона, шустра сорока, случалось, и те на зуб попадали.
– Да экие разумницы, хитрованки гуляшшые. Натешатся, нагуляютца, котяток принесут и попрячутся по пустым домам, потом, глядь, строем солдатским следуют ко мне, и ехрейтор впереди, мама сталыть, жалобно мяукает, очьми виноватыми на меня смотрит – понимаю, дескать, грешница я, в дому и без этих деток тесно, но куда ж денесся, Меланья Петровна, от природы не уйдешь. Я уж конюха, Федора, инда попрошу, изыми которых, избудь, а оне как Федора вблизях почуют – ф-фуррр, токо их и видали. Вот и накопилася семейка. Да ты, постоялец, не беспокойся, оне, как подрастают, вольными казаками становятся, гу-у-ляют, грабежничают по ночам, днем отсыпаются на пече, запах от их умеренный, вот я дак привыкла и не чую ево…
Слушать бабку Меланью после лагерного лая, дури, матерщины, команд и криков было одно удовольствие, но Антон Антонович уяснил, что свое жилье все же надо поторапливаться ладить. Работал он, как приучен был в неволе, сурово и податливо, но работал на себя и потому прихватывал вечера, иной раз и ночи.
Полуподвальный сгнивший поддон дома с приплюснутыми оконцами, напоминающими лагерные бараки, перебрали и подрубили быстро, потому как дерева вокруг было завались: пустующая и наполовину уже старушками растасканная на топливо школа, здесь же выворотили и с потолков сняли крепкие плахи, тесом разжились в недостроенной конюшне. Уже к осени задымила трубою оздоровевшая изба в Тяже.
Антон Антонович на колхозной машине съездил в город, купил какую-никакую мебелишку, холодильник, телевизор, половики, ложки, чашки, поварешки, еще бумажные репродукции картин приобрел и, не обдирая коры, наделал к ним рамок из березовых и ольховых веток, пучки вереска и полыни всюду навесил, икону деревянную, подаренную ему отцом Никодимом и вновь им освященную, в уголке горницы поставил, свечку затеплил и первый раз в жизни помолился во блаженном покое, сделал все, как наставлял его отец Никодим, где-то, всего в верстах двухстах-трехстах, снова вдохнувший жизнь в свой покинутый, сиротский храм. Народ, как писал он Дроздову, приспособлен богом ко всему, даже к сатанинской власти, и, господом вразумляемый и ведомый, не одичал он совсем, научился многим мудростям жизни, но особливо – приспособляемости к обстоятельствам; хотя духовно и ослаблен, но все еще жив, жив российский люд, и надобно ему всемерно помочь воскреситься.
Отец Никодим сообщил, что почти все иконы из храма, подсвечники, ризы и всякого рода необходимое облачение и предметы культа народ, стало быть окрестные жители, пока полномочные люди писали бумаги, составляли акты, унес и спрятал, так что ни пиратам московским, вскоре сюда нагрянувшим, поживиться нечем было, ни заботливым работникам областной культуры не из чего сделалось создавать музей, да они его и создавать не собирались, просто нашли благовидный предлог разорить еще один храм.
Деньги, полученные при увольнении с Н-ского лесозаготовительного предприятия за многолетний, послушный, стахановский труд и подзаработанные на весеннем сплаве леса уже в качестве вольнонаемного трудящегося, подходили к решительному концу. Антон Антонович подрядился в колхозе в качестве погрузчика возить на тракторе убранный лен с полей и, на фронте еще как бы шутя садившийся за руль машины, съездил в райцентр, вроде бы в отпуск, окончил скоросрочные курсы шоферов.
Надо было браться за главное – писать роман. Его он придумал и выносил в глухих лесах, в темных лагерных бараках. Роман затевался крутой, остросюжетный, на недавнем жизненном материале заваренный – только всю романную действительность следовало поместить на другой планете. Этакие вот инопланетяне у него, Дроздова, должны выкаблучиваться, зверствовать, истреблять друг друга, у них даже и жаргон, эта отвратительная армейская и лагерная феня, может не меняться, и признаки борьбы за светлое будущее должны сохраняться.
Антон Антонович Дроздов был наделен природою умом, силушкой и талантом не обойден. За зиму он состряпал роман под названием «Омега Икс – отраженная планета», почти в тысячу страниц, и отвез его в Москву, где с проволочками, задержками и цензурными проверками роман был одобрен, в сокращенном виде напечатан в одном из журналов и скоро издан в молодежном издательстве, в отделении «Научная фантастика», большим тиражом. Получив большие деньги, Дроздов купил себе машину, последней модели «Москвич», а также одежду, в которой не стыдно было бы показываться в общественных местах и в столице нашей Родины.
Но Антон Антонович тоже был живой, современный человек, и его, современного человека, подхватило современное дуновение успешливых ветров. Он чаще и чаще наезжал в столицу, где заключил аж три договора на новые произведения, один договор уже реализовал – издал роман, снова фантастический, снова остросюжетный, читабельный, и, как ни странно, очурало его самое массовое искусство – кино, или кьибенематография, как говорил на разных торжествах один классик братских народов.
Картина была грузинская, а вот уж на базаре торговать, кино ставить и в футбол играть с грузинами в ту пору никто не мог сравниться.
Картину смотреть Дроздов был допущен по блату, при малой, избранной публике, выдающей разрешение на то, что следует читать и показывать советскому народу, что читать и показывать не следует, чтобы он не испортился. Название картины в вольном переводе читавшего титры представителя грузинской кинематографии вслух и то, что говорилось на экране, переводилось как «Памятник». Нарочито нудно, замедленно показывалось, как один молодой грузинский талантливый скульптор, изголодавшийся в институте и Академии искусств, решил сначала хорошо подзаработать, широко пожить, потом уж взяться за настоящее, подлинное, конечно же, великое искусство. Молодой талантливый скульптор удовлетворял прихоти богатых своих честолюбивых соотечественников, часто получал заказы на изготовление надгробий, завел себе помощников-ремесленников, те день и ночь лепили у него в мастерской, отливали из гипса, бронзы, тесали из камня бравого грузина в кепке. В этом изделии главное было – чтоб грузин выглядел джигитом и кепка на нем чем ширше, тем ценнее и лучше.
Скульптор сделался богат, известен в Тбилиси и в ближайших его окрестностях. Уже утомленный трудами, пресыщенный благами, попробовал он творить работу для души, созидать, но у него ничего не получилось, он утратил талант ваятеля, он сделался ремесленником.
Старый, седой, согбенный, бродит он по многопокойному кладбищу и всюду видит кепки, кепки, кепки…
Разумеется, такую ущербную, порочную картину в прокат на российские экраны не допустили, но в памяти у Дроздова она осталась, достало ему ума и мужества спохватиться, как бы он не сделался создателем литературных кепок.
Давно уж, помимо обочинной литературной продукции, которую он сотворял усердно и прибыльно, точило, раною жгло его сердце то горе, та изводь крестьянства, которой свидетелем он стал, то враждебное отношение человека к человеку, которое волею божией, как глаголил поп Никодимка, довелось ему наблюдать. Дроздов понимал, что исток этой вселюдной враждебности тлел углем в закутке российской истории, будто в загнете русской печи; стоило его раздуть буре мехов Гражданской войны, коллективизации, сталинского сатанизма, как угль возжегся во всепожирающее пламя.
Но вот и Сталин в бозе почил, хотя и славился как бессмертный, вот и неудержимый говорун, полуграмотный человек, на пенсию выведен был, дозорив чуть дышавшее крестьянство, в земелюшку вослед за любимым вождем подался главный герой войны, раскрасавец вождь, в молчаливое гнездо, где всем птенцам не тесно, где нет ни болей, ни стенаний, ни болезней, ни коммунистической, ни фашистской дури и злобы, ни передовых лозунгов, ни обещаний всеобщего благоденствия, но жизнь бесконечная. Угодили туда же выдвиженцы партии, бывшие кагэбэшники, выскочки из военных и престарелые старатели, творившие околокремлевскую карьеру в золотых россыпях лжи, демагогии, всеобщего привычного обмана народа. Однако ж ни покоя, ни тем более благоденствия на земле российской не наступало, народ, ее населяющий, хирел, старился, сатанел душевно, но главное, стремительно дряхлел, несмотря на все физкультурные старания и помощь со стороны медицины и прогресса.
Исток беды чувствовать, догадываться – дело ладное, но еще ладнее добраться до него, вникнуть в суть трагедии народа, столь долго, с пламенным энтузиазмом и все матереющим злом истребляющего самого себя.
* * *Еще работая над хлебными сочинениями, Дроздов часто гонял свой «Москвич» в областную библиотеку, отыскивал и обогащался фантастическими идеями, подпитывался всевозможной небывальщиной, ловко, как ему казалось, запрятывая в подтекст вопиющую и вопящую действительность советской жизни. Но никто этого не хотел замечать. Надо было учиться разговаривать прямо и откровенно со своим занемогшим народом, надо было не кривлять по заоблачным мирам и их неизведанным дорогам, но становиться на прямой путь в литературе, захламленный исторической кривдой, устеленный красивой ложью новоцарствующих персон, большей частью малограмотных и жестоких.
Библиотечные работники, точнее, работницы уже знали Дроздова, относились к нему со сдержанной почтительностью, как к известному уже литератору, порой с почти нескрываемой заинтересованностью, как к мужчине одинокому и никем не занятому. Здесь, в здоровом, сплоченном коллективе, трудились в большинстве своем престарелые девы, мученицы матери-одиночки, какие-то взвинченные интеллектуалки, которые неусыпно заботились о том, чтоб их библиотека не отставала от передовой мысли и достижений прогресса, все время проводили какие-то диспуты, коллоквиумы, конференции, иной раз в узком кругу, с чаем, с дешевенькими конфетками и даже кофием, в Женский день и с винишком.
Раза два Антон Антонович побывал на чаепитиях в узком кругу, натужась, вспомнил пяток острот и два полуприличных анекдота да и утратил к сим мероприятиям всяческий интерес. Руководила, точнее, давно уже царила в библиотеке Леопольдина Ефимовна Тростнякова, на пробор, всегда наспех причесанная, громкоголосая дама смугло-цыганского вида, еще более почерневшая от табаку и кофею, которые она потребляла в таком количестве, что уж глаза ее черные в середке горели сумасшедшинкой, голос она сожгла и засадила до хрипоты.
Она была баба с юмором и отец родной своему коллективу, все и всех тут знала, всех по-своему любила, всех громко бранила, если ее бабенки подавали к тому повод или что-то не ладилось во вверенном ей предприятии. А не ладилось в старой, еще до революции строенной библиотеке все время что-нибудь. Раза два Антон Антонович по доброй воле и безвозмездно помогал бабенкам устранить нежданно открывшуюся горячую течь в трубах, укрепить отвалившуюся дверцу у дубового шкафа директорши иль подгнивший стеллаж с книгами в отделе выдачи, который чуть было не завалил бедных девочек, одну практикантку даже по голове ударил стояком иль старинным толстым фолиантом. Девочка поблевала в туалете, но с работы не снялась, закончила библиотечный техникум и поступила в этот же, ей по ушибу знакомый отдел. Здесь работали беззаветные, корысти не знающие труженицы, иного свойства и склада люди сюда не приходили, если случались нечаянно, быстро и навсегда исчезали.
Отделом картотек (это для маскировки картотека, на самом же деле спецхранение) ведала Элеонора Пантелеймоновна, надежное доверенное лицо директрисы и ближайшая подруга Леопольдины Ефимовны. Туда вот, к подруге своей, дозволила властительница книг проникнуть Антону Антоновичу. И там он открыл для себя такие давно нетронутые залежи, что волосы на голове у него шевелились, когда он читал книги и сброшюрованные документы о Гражданской войне в России, о коллективизации и прочем, и прочем.
Он не только читал, но и присматривался к хозяйке почти секретного книжного отдела. Женщина чуть за тридцать, с завязанной от пыли платком головой, на затылке угадывалась уложенная в узел коса, древняя слабость Дроздова, с открытым взглядом серых, с прозеленью глаз, чистая, но бледная ликом, со всегда строго сжатыми, совсем неисцелованными и оттого в минуты волнения сразу алеющими губами, с умненьким, чуть выпуклым лбом и неожиданно вздернутым, задиристым носом.
В отделе водился электрочайник, Дроздов иногда пил со своей начальницей чай, от щедрот своих лихо вывалив на стол дорогие шоколадные конфеты, кулек печенья – она любила сухое, хрустящее печенье, заметил он.
Всякий раз, когда Дроздов позволял себе этакую вольную щедрость, Элеонора Пантелеймоновна прижимала кулачки к груди: «Ну что вы! Ну зачем вы?» А когда он однажды, решительно отодвинув книги, выставил на пыльную середину стола шкалик коньяку и бутылку с длинным горлышком сухого заграничного вина, она чуть не умерла от страха и волнения.
Но умевший, и совсем не худо, командовать ротой, управляться с лесоповальной бригадой зэков читатель-писатель быстро укротил характер библиотечной дамы, соврав при этом без задоринки в глазу, что у него сегодня день рождения, принудил ее выпить из стакана даже коньячку, сухого вина она уж и сама выпила, храбро сказав при этом, что это венгерское вино она очень любит.
– У-у, какой вы – женоугодник, – погрозила ему пальцем Элеонора Пантелеймоновна, на что он ей ответил, что не успел выучиться на женоугодника, не умеет за ними ни ухаживать, не знает и каков редкостный фрукт под названием «любовь».
– Как это? В биографии ваших книг написано, что вы воевали и долго работали на Севере.
– Все нынче врут биографии, Элеонора Пантелеймоновна, книжки тоже часто врут. Хотите узнать мою биографию?
– Н-ну, если не возражаете, я вас слушаю.
– Эх, Элеонора Пантелеймоновна, Элеонора Пантелеймоновна. Биография моя столь длинна и занимательна, что дай бог ее за месяц рассказать, если вы согласитесь поехать со мной в деревню, где я постоянно живу.
– Как это? – ошеломленная, отшатнулась на стуле Элеонора Пантелеймоновна. – Вы что? Вы за кого меня принимаете?
Ему пришлось быть настойчивым, проявить, как он впоследствии юморил, недюжинные умственные способности, чтобы убедить библиотекаршу съездить с ним в деревню Тяж, познакомиться с красивыми окрестностями и, если она не найдет ничего там для нее опасного, остаться на отдых, покопаться в его огороде, искупаться в реке, сходить в лес по грибы и ягоды.
– Н-ну, право, я не знаю, это так неожиданно, и Тяж – это ж так далеко, нас туда однажды гоняли убирать лен.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.