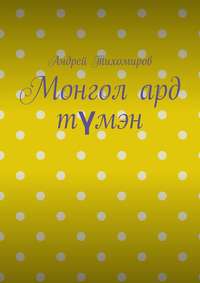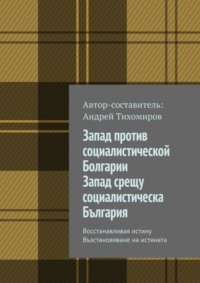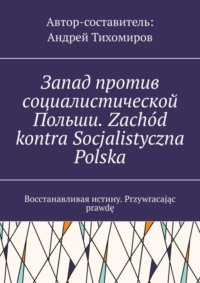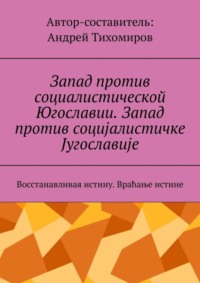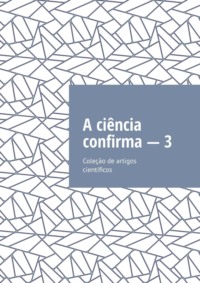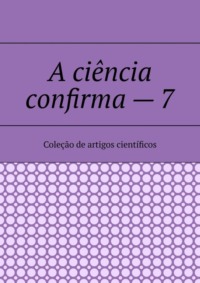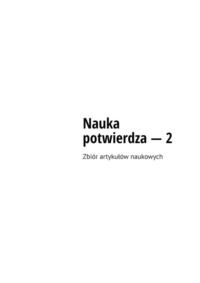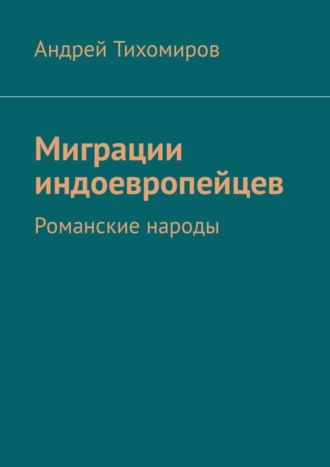
Полная версия
Миграции индоевропейцев. Романские народы
Pем (лат. Remus) – по римской легенде, один из основателей города Рима, сын бога Марса и Реи Сильвии, брат Ромула. Согласно легенде, при основании Рима Рем поссорился с Ромулом и был им убит, в первоначальном варианте мифа, возникшего, около 6—5 вв. до н. э. у греков южной Италии, Сицилии и у этрусков, в качестве основателя Рима фигурировало только одно лицо – Ромул. В таком виде миф возник для объяснения названия «Рим». При дальнейшем развитии мифа личность основателя Рима раздвоилась. Более поздняя версия, сложившаяся к началу 3 в. до н. э. и принятая в Риме, приписывает основание Рима и братьям-близнецам – Ромулу и Рему.
В древнейший период Рим представлял собой родовую общину. Согласно традиции, население состояло из 300 патриархальных родов, каждые десять родов объединялись в курию (curia); десять курий образовывали трибу (tribus) – племя. 3 племени – рамны, тиции и люцеры – составляли «римский народ» (populus Romanus), верховным органом которого являлось собиравшееся по куриям народное собрание мужчин, способных носить оружие (куриатные комиции, comitia curiata). Вторым органом был сенат (senatus) – совет старейшин родов. Избиравшийся народным собранием «царь» (rex) являлся военачальником, верховным жрецом и судьёй. Римская традиция сохранила имена 7 царей: Ромула, Нумы Помпилия, Тулла Гостилия, Анка Марция, Тарквиния Приска, Сервия Туллия и Тарквиния Гордого. Предание о правлении Тарквиниев отразило факт завоевание Рима этрусками, создавшими федерацию городов, которая подчинила в 7—6 вв. до н. э. земли до реки По, области Пицен, Лациум и значительную часть Кампании. Включение Рима в сферу этрусского влияния сыграло большую роль в экономическом (ускорило развитие рабовладения) и культурном развитии Рима. В этот так называемый царский период (8—6 вв. до н. э.) в римском обществе начали формироваться патриархально-рабовладельческие отношения и аграрный строй, при котором внутри общины, наряду с общественной землёй, зарождалась частная земельная собственность отдельных её членов (квиритов). К этому периоду относится складывание двух групп населения – патрициев и плебеев – и распространение отношений патроната и клиентелы. Патриции вели своё происхождение от родов, составлявших первоначально римскую общину, и являлись её полноправными членами. Происхождение плебеев связано с завоеванием римлянами соседних общин, а также притоком пришлых элементов. Плебеи не входили в общину полноправных граждан (populus Romanus) и составляли свободный, но лишённый различных прав слой населения, обременённый различными повинностями. При завоевании соседних общин римляне отторгали часть их земель в фонд Ager publicus, но плебеи к пользованию этой землёй не допускались. Основой экономики древнейшего Римского государства было сельское хозяйство: преобладали зерновые культуры, большое место, особенно в хозяйствах патрициев, занимало скотоводство. Стада паслись на общественной земле. Плебеи, страдавшие от малоземелья, занимались хлебопашеством. Многие орудия труда (мотыга, борона, коса, грабли) изготовлялись из железа; но плуг (без колёс) еще изготовлялся из целого куска дерева. Хозяйство носило натуральный, замкнутый характер; ремесло, начавшее отделяться от сельского хозяйства, и торговля были развиты слабо и находились преимущественно в руках плебеев, у которых быстрее развивалась частная собственность. Хотя свободный труд преобладал как в сельском хозяйстве, так и в ремесленном производстве, количество рабов увеличивалось – складывались класс рабовладельцев и класс рабов.
Усиление роли плебеев в экономике при их численном превосходстве привело к борьбе между плебеями и патрициями. Согласно традиции, первый этап этой борьбы завершился реформами общественного строя, приписываемыми царю Сервию Туллию. Наряду с прежним делением населения по родам, вводилось новое деление по имущественному и территориальному признакам. Все свободные были разделены на 5 разрядов в зависимости от имущественного ценза, тем самым плебеи были включены в общину, но политические права получили лишь самые богатые из них. Каждый разряд населения выставлял определённое количество войсковых единиц – центурий (centuria, буквально – сотня); по центуриям стало теперь проводиться голосование в народном собрании (центуриатные комиции, comitia centuriata); каждая центурия имела один голос; первому, наиболее богатому разряду (80 центурий тяжеловооружённых пехотинцев и 18 центурий всадников) принадлежало 98 голосов из 193. Вместо старых родовых триб было введено деление на территориальные трибы. Реформы Сервия Туллия нанесли сокрушительный удар по устаревшему родовому строю и заложили основы государства.
Есть в итальянских Альпах, недалеко от крупнейшего промышленного центра Милана, горная долина Валкамоника. Она образована стремительной речкой, впадающей в голубое озеро. С шоссейной дороги открываются серые скалы, выступающие из сочной альпийской зелени. Иногда она наползает на них, придавая огромным камням сходство с человеческими лицами. Здесь близ маленькой деревушки Капо ди Понте работала группа ученых уже в наше время во главе с Эммануилом Анати. Счищая с камня мох, они обнаружили рисунки, тысячи неизвестных прежде рисунков. В III – II тысячелетиях до н. э., когда на востоке и на юге соседнего Балканского полуострова существовали сильные государства с богатой и разнообразной культурой, народы Северной Италии жили еще родами и племенами. Население низин страдало не от отсутствия воды, а от ее избытка. Хижины приходилось поднимать на сваи и защищать поселки от наводнений с помощью вбитых во влажную землю столбов. Несмотря на обилие свободной земли, люди жили тесно и так же тесно хоронили своих покойников. В небольших ямках рядами помещались урны с пеплом. Нередко урна стояла на урне. Погребальный инвентарь был таким же бедным, как жизнь обитателей низин. Иногда через поселки в долине реки По и ее притоков, а также через горные перевалы проходили торговцы янтарем. Эти куски застывшей желтой смолы находили на берегах Северного и Балтийского морей. По рекам и сухопутным дорогам янтарь, или, как его называли, «золото Севера», доставляли к берегам Адриатики, где его покупали жадные до наживы греческие купцы.
Не имея правильных представлений о природе янтаря и о том Пути, который он проделал, прежде чем стать драгоценным украшением, греки рассказывали легенду о юном Фаэтоне, сыне Солнца, который будто бы взял у отца солнечную колесницу. Порывистый и нетерпеливый Фаэтон погнал огнедышащих коней и упал вместе с ними на берег сказочной реки Эридана (впоследствии По). Оплакивая погибшего юношу, его прекрасные сестры превратились в тополя, а их слезы, застыв, стали янтарем.
Наскальные рисунки Валкамоники дополнили данные, которыми до сих пор располагала наука о древнейшей истории Северной Италии. В древности в затерянную среди скал долину можно было проникнуть лишь через озеро и по горным проходам, когда они освобождались от снега. При почти полной изолированности от окружающего мира население этого дикого уголка сохраняло верность первобытным устоям жизни. Привычка использовать скалы для рисунков была пережитком отдаленной старины. И в то же время альпийские художники, наблюдательные и любопытные, как все горцы, зорко следили за всем, что проникало к ним со стороны.
…Большой диск с точкой в центре. Перед ним несколько палочек, в которых с трудом можно распознать изображение человека! А диск – это солнце. Человек и солнце. Что это может означать? Очевидно, поклонение солнечному божеству. Символические значения имеют и другие изображения, относящиеся к неолиту.
Второй период искусства обитателей горной долины датируется 2100—1800 годами до н. э. Человеческие фигурки еще остаются схематичными, но уже объединены в группы. Излюбленным становится изображение боевых топоров и мечей из металла. Греческий поэт Гесиод, живший в VIII веке до н. э., считал медь символом времени могучих воинственных героев медного века. В науке нового времени этот период известен как век медно-каменный (энеолит), поскольку орудия из меди не могли еще полностью вытеснить каменных.
…Пара быков тащит плуг. Несколькими линиями обозначил художник ярмо, станину плуга, его лемех и ручку. За плугом идет человек. В правой руке длинная занесенная для удара палка. Сзади четверо изображенных столь же схематично людей. В их руках мотыги. Разбивая вывороченные лемехом глыбы земли, они готовят ее для посева. Первое в Европе описание пахоты дано в IX веке до н. э. Гомером. А здесь – ее первое изображение, относящееся к концу III или началу II тысячелетия до н. э. Плуг в Италии был в то время новинкой. Он внес в жизнь ее населения немалые перемены. Лучше обработанная земля давала больший урожай. В руках родовой знати скапливались излишки продуктов, которые можно было выменять и на изделия, необходимее в хозяйстве, и на предметы роскоши.
Рисунки третьего периода (1800—1100 годы до н. э.) отличаются наибольшим разнообразием изобразительных мотивов. Некоторые из композиций носят еще символический характер, однако постепенно развивается вкус к повествованию. На скалах появляются изображения хижин, поселков, сцены повседневной жизни. Связи с Балканским полуостровом, известные по находкам в разных районах Италии черепков микенских сосудов, подтверждаются изображениями микенского оружия, микенских повозок.
Повествовательный стиль характерен и для рисунков, относящихся к I тысячелетию до н. э. (четвертый период искусства Валькамоника). В центре внимания художников охота и война, земледелие и ремесло. На одном из рисунков изображена воинская пляска.
В V веке до н. э. на скалах долины появились первые письмена. Это буквы алфавита, которым пользовались этруски. В период своего господства в Италии этруски вряд ли проникали в труднодоступную долину. Что им было здесь делать? Но в V веке до н. э. в Италию неудержимым потоком хлынула воинственные племена галлов, которые разрушили многие города этрусков. Часть этрусков ушла в горы. Очевидно, и в долине Валкамоника после галльского нашествия поселилось немало этрусских беглецов.
В I веке до н. э. на скалах долины появились две латинские надписи. Это знамение новой для народов Северной Италии эпохи. Для обитателей низин она началась еще в III веке до н. э. Тогда в долине реки По возникли первые римские поселения. Римляне со свойственной им основательностью соорудили мощеные дороги, по которым всегда можно было подбросить подкрепление, возвели крепости. Но горные районы долгое время были им недоступны. Один римский историк так описывает войны Рима с альпийскими горцами: «Их, прячущихся в горах и лесных зарослях, иногда было труднее отыскать, чем победить. Имея возможность скрыться, эти суровые и быстрые племена то и дело совершали нападения». Долина Валкамоника была недоступнее других. Туда римский легион пробился лишь в 16 году н. э.
Прошло какое-то время, и обитатели долины утратили свой язык, отказались от своих обветшалых обычаев, стали настоящими римлянами. Такова была судьба и более сильных народов Средиземноморья.
О времени самостоятельности обитателей горной долины ничего не было бы известно, если бы не рисунки на скалах.
Этруски, владевшие до римлян Апеннинским полуостровом, были строителями первых в Италии городов. Об открытии одного из таких городов вы узнаете из очерка.
О том, что он некогда существовал, этот значительнейший этрусский порт на Адриатике, ученые знали давно. Судя по свидетельствам древних авторов, это действительно был крупный порт. Он был едва ли не главной гаванью союза двенадцати северных этрусских городов, расположенных в долине роки По. В Спину товары стекались почти со всех концов тогдашнего мира: с Балтийского моря доставляли высокоценимый древними народами янтарь, с Востока – ткани, домашнюю утварь, оливковое масло, благовония. Через Спину этруски вывозили вино, хлеб и свои знаменитые бронзовые и железные изделия в греческие города.
В древности порт был расположен в трех километрах от моря, с которым его соединял канал. Так было в V – IV веках до н. э. В дальнейшем город постепенно стал приходить в упадок. В I веке н. э. деревушка, расположенная на месте Спины (сам город давно исчез, затянутый болотами, занесенный илом), находилась от моря километрах в восемнадцати.
Мокрая серая пустошь: грязь, болотистые озерца, кое-где заросли тростника, редкие кустики, низкое, мутное от вечных испарений небо, стелющийся над болотами туман – так выглядит ныне долина Комаккьо, в которой погребен древний этрусский порт.
Подумать только: здесь должны находиться своего рода этрусские Помпеи! Но эти Помпеи надо было найти. А как узнать, где находится город! Ведь менялось все: и конфигурация берега моря, и русло По, и зеркало воды озера Коммакьо, и даже высота здешних мест (когда-то часть этой местности поднималась над водами лагуны). Сейчас вся долина расположена ниже уровня моря.
И никаких или почти никаких ориентиров! Мало кто из ученых верил, что удастся когда-нибудь отыскать Спину. И тем не менее город нашли. Наука обязана этим начатым здесь еще в 20-х годах прошлого века осушительным работам, а также упорству и трудолюбию итальянского исследователя Нерео Альфиери. Без новейших приемов исследования, без смелого экспериментирования с новыми техническими средствами вряд ли удалось бы достигнуть успеха. Греко-этрусский некрополь был найден здесь случайно во время рытья сточных каналов и осушения болот в 1922 году. Можно было предположить, что неподалеку находится и сам город. Вплоть до 1935 года велись здесь поиски. Было обнаружено более тысячи захоронений. А вот города не нашли!
Работа по розыску Спины возобновилась лишь в 1935 году. Сначала в соседней долине нашли еще одно кладбище. А два года спустя в этом районе был осушен участок болота примерно тот, где, по расчетам Альфиери, должен был скрываться под зеркалом воды затянутый илом и тиной город. Впрочем, когда отступила вода и показалась мокрая земля, ничто вначале не подтверждало эту догадку. Но рано было отчаиваться. Еще целый год участок оставался голым. Весной 1959 года он, однако, зазеленел. Это упрощало дело. Почему? Потому что теперь можно было прибегнуть к методу, который уже оправдал себя в других местах, – к аэрофотосъемке. Местность была сфотографирована с высоты 3600 метров. Альфиери помчался в Равенну, где должны были проявить пленку.
Менее уверенный в своей правоте человек, быть может, даже и не обратил бы особого внимания на какие-то пятнышки, смутно различимые на отпечатках. Но только не Альфиери. Он тут же попросил летчика сделать новую серию снимков, на этот раз с различной высоты, при различном освещении, на разных пленках. Вот тут-то и появилось на свет изображение города площадью примерно 30—50 гектаров и следы каналов 18-метровой ширины. Темные полосы создавались более густой зеленью на месте бывших каналов. Там же, где зелень была беднее, следовало искать остатки домов.
Первые же раскопки дали отличные результаты. Были найдены фундаменты построек, глиняные сосуды, вазы, относящиеся к V веку до н. э. Хуже обстояло дело с изделиями из металлов. Почти все они оказались деформированными до неузнаваемости: коррозия!
Одновременно с раскопками города шли и раскопки его некрополя. Работе там тоже мешали вода и ил. И ведра играли не меньшую роль, чем лопаты. Каждый метр приходилось брать с боем. Могилы находились на дюнах, окружавших в старину лагуну. Альфиери вскрыл в Коммакьо 2 тысячи могил. Сейчас их число превысило 8 тысяч.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.