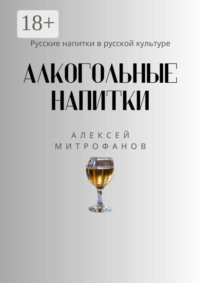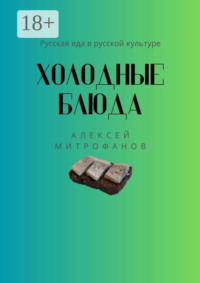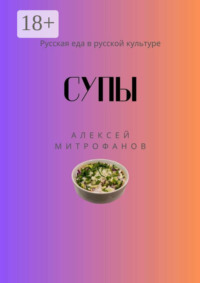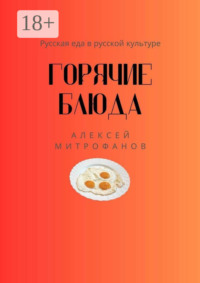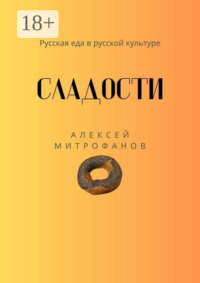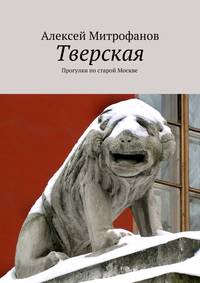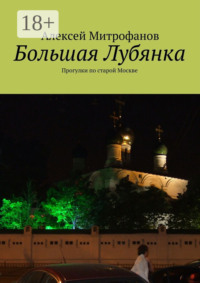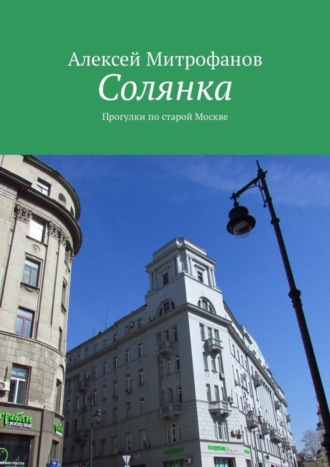
Полная версия
Солянка. Прогулки по старой Москве
Есть даже особый Квасной ряд, который легко и удобно может заменить старинный Обжорный… Ряды занимают два огромных сарая, нисколько не приноровленных к делу зданий. Это громадные погреба, или пещеры, на открытом воздухе: сырость в них, особенно зимою и осенью, по словам даже невзыскательных торговцев наших, убийственная; человек, не привыкший к их атмосфере, которая в большую часть года может сравниться с копями сибирских россыпей, может в непродолжительном времени нажить ревматизм или простудиться в них навсегда… Привычка заставляет выносить все дурное влияние этих помещений. Купцу, залитому жиром, тепло одетому, да еще по большей части выпившему, разумеется, тепло; многие же из числа торгующих, люди не так огражденные своим сложением и желающие делать дело со свежей головой, давно и крепко жалуются на наши ряды, и мы служим только отголоском общего о них мнения, нисколько не желая быть выскочкой… Представьте себе только сырую, мокрую погоду или снег: везде течет, метет, завевает, везде сырость, лужи или сугробы снега, которые кучами располагаются в рядах, за исключением тех, которые несколько скрыты, – там вместо этого вода, спускаясь по трубам, пробивает в худые рамы – отовсюду сырость, из воздуха, из стен, сверху, снизу… Безалаберщина в рядах страшная, временем пройти в них трудно. В москательных наставлены бочки, бочонки, плиты олова, бутыли с разными кислотами; в красных – кипы товару, коробки, скамейки, все это почти на самой дороге, без порядку, без всякой идеи удобства; Меховой ряд заколочен и завешен изнутри лавок синим коленкором, чтобы свет как можно слабее проходил и таким образом меха казались бы темнее. Есть, разумеется, немного исключений из торговцев мехами, которые не прибегают к этому способу. Юхотный, Хрустальный, Ветошный представляют те же неудобства… Юхотный из всех особенно грязен и сыр, как глубокий погреб, Хрустальный завален более других тесно, несмотря на то, что открыт; Ветошный узок, тесен и часто в буквальном смысле непроходим, особенно при входе… Нельзя, разумеется, требовать безусловной чистоты от места, в котором с утра до ночи кипит работа, но нельзя допускать совершенно открытый произвол в загромождении прохода и часто загораживании соседней лавки, что ведет к нередким крупным перебранкам и неудовольствиям между даже крайне неприхотливым купечеством нашим. Артель – замечательная общественная форма производства работ – несмотря на всю ловкость и привычку к делу, решительно выбивается из сил от неудобства положения и неимения никаких вспомогательных средств своим сильным рукам, ни блоков, ни носилок, даже лишенная иногда возможности продвинуть и тележки между узкими проходами».
Тем не менее, именно эта структура поганых, нелепых, порочных и тесных рядов сформировала структуру российской торговли. Сам же Скавронский признавал: «В рядах вырастает и образуется большинство московского купечества; здесь же вырабатывается и приказчик – самый близкий и деятельный слуга русской торговли; в них со всех концов России свозятся дети бедных мещанских и упавших купеческих фамилий учиться торговому делу и иметь возможность жить впоследствии трудом».
Но и здесь все не просто: «Вот мы и наталкиваемся на образ вырастания, на образ воспитания купца, на метод учения купеческого мальчика. Ставим им в параллель толпы нищих, ежедневно осаждающих амбары и лавки, лиц, большею частию не возбуждающих сострадания, а скорее противное – отвращение и за малым исключением играющих роль потехи для сытого купца в свободное время, – есть где поучиться делать доброе дело. Несколько экземпляров отъявленных мерзавцев – выгнанных из службы чиновников, военных служак – часто удивляют своим нахальством и грубейшими выходками, часто против общественно-уважаемых людей, нередко их затрагивающих, немалое число пропившихся, возбуждающих искреннее сожаление, пропавших от сумасбродной благотворительности и доводимых дразнением целой толпы едва ли не до припадков сумасшествия – невольно загрубляют деликатность молодого чувства, идя каждое утро к своим мучителям за куском хлеба, который покупают крайней степенью унижения. Разврат, скрытый, спрятанный, но, кажется, еще более яркий от этого, имеет также в рядах свое место: от лавки к лавке шляются разные богомолки, святоши, иногда монахини, которые нередко бывают предметом самых грязных шуток, молодые дети, часто почти дети четырнадцати лет, нередко прикрывают продажею пряников, конфет другое, более прибыльное ремесло, большею частию они и падают в соприкосновении с этим миром, многие выходят в люди, многие погибают в этой жизни. Пирожники, ветчинники, рыбники, разносчики всякой всячины, рабочие – надо отдать им справедливость – ведут себя много приличнее, в них живое чувство своего достоинства: нередко приходится слышать такие резкие ответы на обращаемые к ним торгующими шутки, что невольно покраснеешь от того, что они обращены к русскому купцу. Бабы-солдатки, ходящие большею частию с разными плодами, также замечательно огрызаются иногда нередко от целого ряда, над которым шум и гам, как говорится, стоном стоят.
Несчастная страсть подтрунивать, принимающая на свободе громадные размеры, переносится из рядов и в погреба, и в трактиры, и там вооружает против купечества половых, нередко даже и приказчиков, не говоря уже о мальчиках, на долю которых, на каждого и каждый день, придется пинков и щипков по десятку… Странно видеть все это в наше время, и особенно там, где, по-видимому, царит благочестие, где огромные образа в дорогих окладах, с теплящимися перед ними день и ночь лампадах и несколько раз в год повторяющимися молебнами, кажется, должны быть свидетельством о христианском направлении нравственности».
Вот оно как! А начиналось все лишь с тесноты и неустройства лавок.
* * *
Однако же после постройки современных торговых рядов их жизнь изменилась до неузнаваемости. Еще бы – воплощение проекта обошлось казне без малого в три миллиона. Соответственно, выросла плата за аренду помещений. Да и культура торговли менялась. Да и ассортимент.
Новые Средние ряды сделались, можно так сказать, интеллигентскими. На первом этаже – чай, кофе, всевозможные портфели и несессеры, парча, хрусталь, севрский фарфор и прочая. На втором – банковские, нотариальные и иные доходные конторы. В специальных помещениях во дворе – лекарства, всяческая бытовая химия. И никаких проблем с тележками, никаких пьяных и толстых купцов.
А после революции купля-продажа вообще утратила свою былую актуальность. Больше стали не покупать-продавать, а распределять-получать. Соответственно, ряды в таком количестве, как раньше, оказались ни к чему. И в здании Средних рядов разместилась серьезная организация – Реввоенсовет под председательством Льва Троцкого.
С одной стороны, вроде, правильно – близость к правительству, близость к Кремлю, до безделушек ли тут, до фарфоровых ли статуэток? С другой, москвичи, по большей части, не обрадовались этому нововведению. А это все-таки их город.
В смысле, наш.
Трактир Лопашова и другой общепит
Церковь Варвары Великомученицы (Варварка, 2) построена в 1514 году по проекту архитектора Алевиза Фрязина.
Первое здание по правой стороне Варварки – церковь Варвары Великомученицы, основанная в 1514 году пресловутым Юшкой по кличке Урви Хвост (как полагают исследователи, дальним предком масона Юшкова) и его братьями – Василием и Вепрем. Строил ее итальянский архитектор Алевиз Новый, прославивший себя Архангельским собором в Кремле. С тех времен сохранился подклет, остальное – переделано в 1796—1804 годах Родионом Казаковым, однофамильцем маститого Матвея Казакова. Ныне бледно-розовая, а в начале прошлого столетия с «окраской свежего зеленого сыра», она – предмет споров маститых историков и топонимистов. Иные утверждают, что улица Варварка названа так в честь церкви, а другие возражают – дескать, еще раньше звали ее Варькой, от слова «варя», то есть места, где что-то варят.
Словом, страсти вокруг этой церковки разыгрываются нешуточные.
* * *
Рядом со святой Варварой стоял один из колоритнейших трактиров Москвы – Лопашовский. В. А. Гиляровский о нем вспоминал: «Трактир Лопашова, на Варварке, был из древнейших. Сначала он принадлежал Мартьянову, но после смерти его перешел к Лопашову.
Лысый, с подстриженными усами, начисто выбритый, всегда в черном дорогом сюртуке, Алексей Дмитриевич Лопашов пользовался уважением и одинаково любезно относился к гостям, кто бы они ни были. В верхнем этаже трактира был большой кабинет, называемый «русская изба», убранный расшитыми полотенцами и деревянной резьбой. Посредине стол на двенадцать приборов, с шитой русской скатертью и вышитыми полотенцами вместо салфеток. Сервировался он старинной посудой и серебром: чашки, кубки, стопы, стопочки петровских и ранее времен. Меню – тоже допетровских времен.
Здесь давались небольшие обеды особенно знатным иностранцам; кушанья французской кухни здесь не подавались, хотя вина шли и французские, но перелитые в старинную посуду с надписью – фряжское, фалернское, мальвазия, греческое и т.п., а для шампанского подавался огромный серебряный жбан, в ведро величиной, и черпали вино серебряным ковшом, а пили кубками.
Раз только Алексей Дмитриевич изменил меню в «русской избе», сохранив всю обстановку.
Неизменными посетителями этого трактира были все московские сибиряки. Повар, специально выписанный Лопашовым из Сибири, делал пельмени и строганину. И вот как – то в восьмидесятых годах съехались из Сибири золотопромышленники самые крупные и обедали по-сибирски у Лопашова в этой самой «избе», а на меню стояло: «Обед в стане Ермака Тимофеевича», и в нем значилось только две перемены: первое – закуска и второе – «сибирские пельмени».
Никаких больше блюд не было, а пельменей на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук: и мясные, и рыбные, и фруктовые в розовом шампанском… И хлебали их сибиряки деревянными ложками…
У Лопашова, как и в других городских богатых трактирах, у крупнейших коммерсантов были свои излюбленные столики. Приходили с покупателями, главным образом крупными провинциальными оптовиками, и первым делом заказывали чаю.
Постом сахару не подавалось, а приносили липовый мед. Сахар считался тогда скоромным: через говяжью кость перегоняют!
И вот за этим чаем, в пятиалтынный, вершились дела на десятки и сотни тысяч. И только тогда, когда кончали дело, начинали завтрак или обед, продолжать который переходили в кабинеты».
Самым же известным из сотрудников трактира был, в действительности, не хозяин, а половой, трагикомичная фигура: «Половой в трактире Лопашова, уже старик, действительно не любил, когда ему с усмешкой заказывали поросенка. Это напоминало ему горький случай из его жизни.
Приехал он еще в молодости в деревню на побывку к жене, привез гостинцев. Жена жила в хате одна и кормила небольшого поросенка. На несчастье, когда муж постучался, у жены в гостях был любовник. Испугалась, спрятала она под печку любовника, впустила мужа и не знает, как быть. Тогда она отворила дверь, выгнала поросенка в сени, из сеней на улицу да и закричала мужу:
– Поросенок убежал, лови его!
И сама побежала с ним. Любовник в это время ушел, а сосед всю эту историю видел и рассказал ее в селе, а там односельчане привезли в Москву и дразнили несчастного до старости… Иногда даже плакал старик».
А на масленицу постоянным посетителям трактира Лопашова подносили симпатичные открытки с незатейливыми строчками:
Растроганный клиент, конечно, оставлял щедрые чаевые.
* * *
Во времена нэпа общепитовская слава этой церкви только выросла. Более того, переползла внутрь церковных стен – в храме открыли одну из многочисленных частных закусочных. Ее превосходнейшее описание оставил Виктор Ардов: «Я с удивлением рассматривал, так сказать, конфигурацию этого зала: входная дверь вела к квадратной площадке (два метра на два). Тут расположена была, с позволения сказать, кухня: на грубом столе стояла керосинка, а на ней подогревались поочередно две кастрюли. В одной кипятилась нарезанная толстыми ломтями вареная колбаса, во второй же кастрюле плавали – опять-таки в кипятке – свиные уши… Хозяин заведения сам присматривал за варевом, сам отвешивал на всех порции колбасы и ушей, сам выдавал посетителям круглые булочки, и по сей день именуемые ситничками (разумеется, сейчас уже не именуемые. – АМ). А более никаких яств и питий не было. Спиртным владелец заведения торговать не имел права (патент у него был ограниченного действия), но если кто из гостей приносил с собою нечто горячительное в бутылке, непременно находился толстый стеклянный стаканчик…
От входной площадки (она же кухня) ответвлялся некий аппендикс: два метра в длину и метр в ширину. К стенке аппендикса прилажен был стол шириною полметра, а параллельно столу – скамья и вовсе узкая. Вот на этой скамье и сидели, тесно прижавшись друг к другу, едоки горячей колбасы (до революции такое варево называлось «колбасою по-извозчичьи») и таковых же свиных ушей. А если кто намеревался уйти, должны были вставать все посетители. За такое построение стола закусочная именовалась «автобус». Люди так и говорили: «Пойдем в автобус к дяде Васе». Надеюсь, вы догадались, что дядя Вася был владелец этого мощного пищеблока на пять посадочных мест.
Беседа велась общая. И дядя Вася в ней принимал деятельное участие, не забывая при этом подогревать остывшие кастрюли и подрезать новые порции еды».
Там же, в «автобусе» случилась встреча, поразившая Ардова до мыслимых и немыслимых глубин. С ним за одним столом вдруг оказался Михаил Климов, популярный в то время театральный актер. Мемуарист пояснял: «Удивление мое было велико еще и потому, что о Климове нам давно стало известно: оба его родителя работали всю жизнь как повара первой руки в ресторанах Петербурга. Да и сам Михаил Михайлович славился как гурман. Он изобрел несколько пикантных блюд; в ресторане при Центральном Доме актера и по сей день подают котлеты по-климовски (сейчас уже не подают. – АМ). А тут в «автобусе» он с аппетитом уписывал уши и назидательно пояснял сотрапезникам, как готовится такое лакомство. Оказывается, варить эти уши следует не менее двух суток, иначе не смягчатся хрящи, составляющие самый смак.
– Михаил Михайлович, – спросил я, – вам, известному знатоку всяческих деликатесов, разве могут нравиться эти хрящи?
– Именно потому, что я – знаток, я и люблю изредка отведать народного угощения! – ответил артист. – Все эти «деволяи», «бризоли», «соусы тартар» и «бешамели» мне просто приелись. А ты найди сейчас в Москве ту же «колбасу по-извозчичьи»!.. Прежде я, бывало, от «Яра» или из «Стрельны» ехал в ночную чайную к настоящим извозчикам горячей колбаски попробовать. А сейчас… спасибо, вот дядя Вася нас балует!
…Вся скамья «автобуса» одобрительно зашумела, подтверждая правоту артиста. Климов встал. Тотчас поднялись прочие едоки и выпустили его из теснины.
Артист приветливо помахал рукою сразу нам всем и покинул «заведение»».
И все же, не совсем понятно, что поразило нашего мемуариста больше – демократичные пристрастия актера Климова или сами уши. Вероятно, уши.
А тот факт, что все это происходило в церкви, воспринимался им как нечто само собою разумеющееся.
* * *
Рядом (дом №4) – церковь Максима Блаженного, построенная в 1698 году на средства Натальи Кирилловны, матери Петра Первого. В ней погребен знаменитый Максим, Христа ради юродивый, который бродил по Москве нарочито безобразен и наг.
Снова праздник, – прочь печали, —Будь веселье в добрый час.Мы давно дней этих ждали,Чтоб поздравить с ними ВасИ желать благополучий, —Время шумное провесть,А у нас на всякий случайУж решительно все есть:Наши вина и обедыЗнает весь столичный мир,И недаром чтили дедыЛопашовский сей трактир.
Дипломатическое представительство эпохи Юшки Урви Хвост
Здание Английского подворья (Варварка, 4а) построено во времена царя Ивана Грозного.
На Варварке, на ее правой, полулубочной стороне, среди храмов и храмиков торчит белым пеньком невысокое здание. В наши дни здесь одна из экспозиций музея истории города Москвы. А в средние века – это убежище английских, да и прочих иностранных дипломатов и купцов (иной раз они спасались тут во время беспорядков).
Эти белые палаты появились здесь в пятнадцатом столетии. Поначалу ими владел Иван Бобрищев по прозвищу Юшка (опять Юшка!) – то ли «постельничий», то ли «печатник». Наследника он, видимо, не имел, и в следующем веке здание каким-то образом стало казенным, а тут еще известный мореплаватель сэр Ричард Ченслер открыл удобный водный путь, соединяющий Россию с Англией.
Наш город Ченслеру понравился. Он сообщал: «Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с предместьями».
Отношения между двумя государствами стали налаживаться, и в 1556 году царь Иван Грозный «англичан на Москве двором пожаловал», а также предоставил им серьезные таможенные льготы. Этим двором и стала бывшая недвижимость Юшки.
Здание служило одновременно и амбаром-складом (товары с помощью простого блока поднимались вдоль стены и попадали прямиком в окно), и резиденцией английского посла. Обычные работники, обслуживающие как посольство, так и важный торговый процесс, селились в простых деревянных избах, выстроенных рядом, – так было дешевле и считалось более полезным для здоровья.
На свое содержание английское посольство ежедневно получало неплохой паек: четверть быка, четыре барана, 12 кур, два гуся, одного зайца (его иной раз заменяли тетеревом), 62 хлебных каравая, 50 яиц, четверть ведра средиземноморского вина, три четверти ведра пива, полведра водки и два ведра меда. Кроме того, еженедельно отпускались пуд масла, пуд соли и три ведра уксусу, а по воскресеньям – два барана и один гусь.
Слугам алкогольные напитки (разумеется, за исключением дорогих вин) предоставлялись дополнительно.
Торговля проходила более-менее стабильно, чего не скажешь о дипломатических делах. Иван Грозный был царем со странностями – и то вдруг всерьез решал жениться на английской королеве, а то, наоборот, ругался на нее последними словами. Наш государь, к примеру, как-то написал британской самодержице: «А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица».
В другой раз вдруг попросил у той «девицы» политического убежища, пообещав при случае оказать ту же самую услугу. Та ответила, что, дескать, если нужно – приезжайте, а уж я как-нибудь дома посижу.
Счастливая торговля с Англией закончилась в 1649 году, когда британские повстанцы казнили Карла I, своего короля. Царь Алексей Михайлович Тишайший в знак протеста против этих беспорядков подписал указ о выдворении британского купечества из послушной и добропорядочной России, а так называемый Английский двор, естественно, конфисковал. В разное время здесь располагались Нижегородское подворье, Арифметическая школа, а также проживали разные купцы (уже, естественно, российские).
Город, между тем, все ширился. Старое каменное здание начало обрастать новыми помещениями и в конце концов вообще скрылось от глаз прохожих. Лишь в середине прошлого столетия, когда расчищалась территория под восьмую (так, впрочем, и не возведенную) высотку, реставратор и историк Барановский обнаружил за поздними наслоениями этот памятник архитектуры и истории.
В 1968-м принялись за реставрацию на первый взгляд совершенно неприметного четырехэтажного дома. И уже в 1972 году вновь обретенное строение украсило пейзаж улицы Разина («советское» название Варварки). Кстати, по проекту, там, где высился Английский двор, следовало соорудить автомобильный пандус гостиницы «Россия». Но Барановский настоял на сохранении памятника, и в результате пандус несколько сместили.
Здание было спасено.
Вот такой хэппи-энд.
Древнерусская готика
Мемориальное здание «Палаты в Зарядье» (Варварка, 10) построено в 1859 году по проекту архитектора Ф. Рихтера.
Очередная церковь на Варварке – собор Знаменского монастыря. Он был основан в 1629 году царем Михаилом Федоровичем, первым Романовым, в честь рождения сына Алексея. Основой его стала домовая церковь бояр Романовых – до избрания молодого Михаила на царство здесь размещались их палаты.
Можно сказать, что они расположены рядышком. Это музей под названием «Палаты в Зарядье», или Дом бояр Романовых. В шестнадцатом столетии им владел Никита Захарьин Романов-Юрьев, дед Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых. По преданию, он родился именно в этих палатах.
Этот музей – один из самых первых в Москве. Он был основан (и, по сути, заново отстроен, ведь от подлинных стен мало что в то время оставалось) в 1859 году и поначалу назывался Домом бояр Романовых. После революции его переименовали в Дом боярина, с 1975 года это – Музей боярского быта, а уже после окончания советского периода истории России он получил современное название.
Москвовед Никольский сообщал в начале прошлого столетия: «Было воздвигнуто… фантастическое снаружи и внутри здание так называемого „дома бояр Романовых“, стоившее казне до 300 000 рублей».
На идеологию в то время денег не жалели.
Событие было значительным. Современник Михаил Пыляев так описывал процесс: «В 1858 году по повелению императора Александра Николаевича августа 31-го начали возобновлять прародительскую палату бояр Романовых, находящуюся на углу монастыря по Варваринской улице и Псковской горе. На закладке при входе на паперть государя встретил митрополит Филарет с напрестольным крестом в руке – вкладом матери царя Михаила великой инокини Марфы. При митрополите стоял придворный протодиакон с кадилом патриарха Филарета Никитича. Под сению хоругвей оба иеромонаха держали в руках храмовой образ Знамения Богородицы, родовой бояр Романовых, царское моленье Михаила Феодоровича.
В приготовленное место для закладки государем и августейшей фамилией были положены новые и древние монеты, поднесенные членами комиссии по постройке. Так, И. Снегиревым были поданы на блюде серебряные и золотые монеты чекана 1856 года, в память коронования государя, – год, в который повелено возобновить романовскую палату; А. Вельтманом – золотые и серебряные монеты 1858 года, в свидетельство действительного начала работ для обновления этого древнего памятника; Г. Кене – золотые и серебряные монеты времен царя Михаила Федоровича в память того, что в означенном доме родился и возрос этот государь, первый из поколения Романовых; известным нашим археологом архитектором А. А. Мартыновым – серебряные монеты царствования Иоанна Грозного как свидетельство, что здание было построено при этом государе.
Возобновление палаты было окончено 22-го августа 1859 года, и она освящена в этот же день в присутствии государя императора. Древняя боярская палата была построена в четыре этажа: первый, подвальный этаж, или так называемое в древности погребье с ледником и медушею; второй, нижний этаж, или подклетье с людскою, кладовою, приспешнею, или поварнею; третий, средний этаж, или житье с сенями, девичьею, детскою, крестовою, молельною и боярскою комнатою; четвертый, где находятся вышка, опочивальня и светлица.
Все комнаты внутри были убраны старинными предметами или сделанными по старинным образцам. На восточной стороне палаты в среднем жилье выступает висячее крыльцо, или балкон, глядельня. Над ним в клейме – герб Романовых; под ним в нише – надпись на камне, начертанная уставною вязью, гласящая, при ком и когда начата и окончена постройка».
Правда, случился неожиданный курьез. Господин Рихтер, архитектор, будучи скорее западноевропейских, а не российских кровей, изобразил старину так, как она представлялась его воображению. В результате на вполне себе российском основании появилось здание, скорее тяготеющее к готике. Но много ли тогда было искусствоведов в Москве?
В результате Ф. Рихтер щедро был награжден за работу – не только гонораром, но еще и орденом Владимира (правда, предпоследней, третьей степени).
Впрочем, список претензий к архитектору Рихтеру этим не ограничивался. И если до 1917 года искусствоведы были сдержанны в своих оценках – как-никак, государев объект, – то после революции высоколобые дали своим эмоциям простор, ясное дело, примешав еще и классовую сущность: «В 1856 году, в пору романтического увлечения стариной, возникла мысль восстановить якобы родовое гнездо царствующего дома, в связи с чем значительно утратившее свой облик здание было капитально обновлено архитектором Ф. Рихтером, давшим значительный простор своей фантазии: были пристроены наружные лестницы, входные сени, добавлен деревянный верхний этаж, пробиты новые окна, сочинена вся наружная обработка и, наконец, устроено внутреннее убранство, весьма разнящееся от исторической правды; однако, в угоду царизму, вся внутренняя отделка была выполнена с большой роскошью: сделаны были совершенно не соответствующие старинному стилю специальные штофные материи для обивки стен, изразцовые печи, росписи сводов, зеркальные окна, изготовлена мебель и утварь якобы в древнем стиле и т.п., не таков был уровень тогдашних знаний о быте наших предков, и эта реставрация долгое время считалась образцовой. Кроме того, весь дом был набит разновременными предметами, связанными с памятью Романовых. Теперешняя же наука при реставрационных работах прежде всего стремится сохранить и выяснить только подлинно древнее, лишь в самых крайних случаях прибегая к добавлениям нового характера; поэтому после революции, когда был вполне утрачен смысл этого прославления Романовых, основанного на ложных принципах, „дом“ был коренным образом реформирован. Архитектурная обработка, конечно, должна была остаться, но все внутреннее устройство было радикально изменено; путем устранения всех фальшивых предметов и романовских реликвий и внесением подлинно древних вещей (главным образом из собрания Оружейной Палаты) сделана попытка, по мере возможности, восстановить картину быта вельможного класса XVII в. Конечно, правильность этой картины осталась лишь приблизительной, что надлежит иметь в виду при осмотре „дома“».