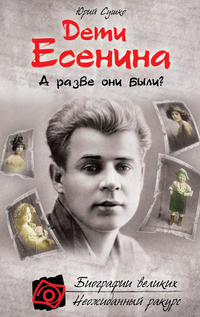Полная версия
Марина Влади, обаятельная «колдунья»
Благодаря бабушке, которая наконец-то перебралась в Париж, в доме общались исключительно на русском языке. До шести лет Марина вообще не знала ни слова по-французски. Бабушка много рассказывала внучкам о России, о себе, дальних и близких родственниках. Как вспоминает Влади, она «учила меня русским песням, сказкам, стихам, водила в православную церковь. Верующей я не стала, но русское начало во мне навсегда окрепло…».
На семейном столе неизменно присутствовали традиционные российские блюда – борщ, лапша, котлеты с гречневой кашей, суп с куриными потрошками. По вечерам основательно, со смаком, чаевничали, обязательно с домашним вареньем и отливавшим янтарем медом. Но, конечно, пироги, блины и прочие вкусности для девочек оставались под строжайшим запретом. Не дай бог ослушаться – марш к станку!..
Семья у них, утверждала Марина, была замечательная, гостеприимная, радушная. Но, безусловно, богемная. В небольшой квартирке постоянно толклись самые разные люди. Приходили-уходили, выпивали, закусывали, дамы кокетничали, обмахиваясь изящными китайскими веерами, мужчины галантно пыжились, топорщили усы и набивали свои курительные трубки душистым английским табаком. Загорался зеленый глаз радиоприемника, несравненный Морис Шевалье пел «Париж остается Парижем», художники хвастались своими картинами, кто-то читал стихи, другие в лицах показывали свежие театральные байки. Нешуточные страсти загорались по поводу последних политических событий. Наиболее беспечные заявляли, что в Польше немцы ведут обычную колониальную войну, которая Франции никак не может коснуться. Но тут же очевидцы рассказывали, что на Елисейских Полях доморощенные фашисты в кровь избивали продавцов левых газет, рабочих, требовавших создания Народного фронта, и евреев. Владимир Поляков авторитетно заявлял, что Гитлер ни за что не остановится и непременно будет мстить всей Европе за Версаль. Новая мировая война уже стояла на пороге и стучалась в двери кованым сапогом.
В июле 1940-го пал Париж, над Триуфальной аркой взвился флаг со свастикой, и миллионы французов, в том числе, конечно, и семья Поляковых-Байдаровых, оказались «под немцем».
«Я помню запах войны, – говорила Марина. – Для меня это запах немецких сапог… Прекрасно помню один день. Мне было всего четыре годика… Мы с мамой выходили из магазина, когда увидели в конце улицы немецкие танки, медленно въезжавшие в наш квартал на окраине Парижа. Я так испугалась, что вырвалась из рук матери и бросилась к стоящему на тротуаре военному. Крепко обхватив его за ногу, я прижалась щекой к его хромовому сапогу. Мне казалось, что этот сильный, красивый человек в военной форме должен защитить меня. Оторвав от танков свои полные слез и ужаса глаза, я подняла их вверх… и, о боже! Это был немецкий офицер, который быстро-быстро заговорил что-то непонятное на своем отрывистом, гортанном языке. Эти звуки до сих пор далеким эхом отдаются у меня в ушах. Я люблю немецкую культуру, оперу, музыку, но и сегодня я не могу равнодушно слушать немецкую речь…»
Для гитлеровцев, понимала девочка, мы были ничто, и только поэтому они на нас не обращали внимания. «Мы жили около большого вокзала, который бомбили все время. И американцы потом бомбили… Голод… Моя мать похудела на 30 килограммов… Она ничего не ела, все отдавала детям… И были очень суровые зимы в то время. У нас не было отопления, спали одетыми, в пальто… У отца был полушубок, нас им накрывали. Когда отец уходил на работу, он давал мне кусочек мяса. Он единственный, кто в семье ел мясо, потому что он трудился на складе-холодильнике в Клиши и, кроме того, подрабатывал садовником. Он мне давал кусочек мяса, и я его весь день сосала. Отец не был коммунистом, он был анархистом. Но родители очень переживали за Россию…»
В годы войны германские оккупационные власти предложили инженеру Полякову работу, связанную с авиастроением. Видимо, о его изобретении закрылок для самолетов им стало что-то известно. Владимир Васильевич под надуманным предлогом отказался. Отец, говорила Марина, очень боялся, что немцы воспользуются его техническими разработками, и сжег все свои чертежи. Удивительно, но его не тронули.
«la Ragazza in Vetrina» – «Золушка в витрине»
«Ирина. Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушает нас, как сорная трава… Текут у меня слезы. Это не нужно… Работать нужно, работать…»
А. Чехов – «Три сестры»«Я не проснулась однажды утром с решением, что буду актрисой! – заверяла Марина. – Но и не избрала эту профессию случайно – меня к ней сознательно готовили. Конечно, мне повезло – я не провела годы простой статисткой. Благодаря моим родным еще ребенком работала на радио и в дубляже. Меня это очень развлекало, но я еще и гордилась тем, что зарабатывала деньги. Мне никогда не приходило в голову, что я могла бы заниматься чем-то другим. Кроме того, это был способ избавиться от бедности…»
Впервые она вышла на сцену в два с половиной (!) года. Родители готовили представления сначала в православной церкви в Клиши, потом в русской консерватории в Париже, а накануне мама три дня кряду пекла пирожки для гостей. Маринка тянулась к угощению, танцевала и пела. «Что танцуешь, Катюня?» – «Польку-полечку, мамуня…» Мама позвала отца, и они с интересом стали наблюдать, как их кроха точь-в-точь повторяет все танцевальные па и помнит наизусть тексты песенок, с которыми перед публикой уже выступала восьмилетняя Елена.
«Ну как? – родители посмотрели друг на друга. – Дебют? Дебют!»
Чтобы танцующую Марину было лучше видно зрителям из задних рядов, ее ставили на стол. Девчушка пела и танцевала:
– Что танцуешь, Катенька?– Польку, польку, маменька.– Что за танец, доченька?– Самый модный, маменька…Потом русская община в Париже на Рождество устроила домашний концерт. Семейство Поляковых-Байдаровых в полном составе блистало в одном из номеров. Марина в нарядном сарафане и ярком платочке изображала матрешку и звонко подпевала родителям и старшим сестрам, которые исполняли частушки. В качестве гонорара Марине досталась красивая кукла, с которой она потом долго-долго не могла расстаться.
С девяти лет Марина уже начинает пробовать свои силы на радио. В своей первой радиопьесе она играла вместе с самим Франсуа Перье, популярнейшим актером театра и кино. Когда в 1963 году они встретились на съемках фильма «Драже с перцем», то хохотали до слез, вспоминая Маринины мучения со всеслышащим микрофоном и то, как она вздрагивала, едва раздавалась грозная команда режиссера: «Тишина в студии!» Чуть позже начинающей актрисе уже доверили роль ведущей одной из детских передач. Потихоньку она начинает приобщаться и к кино – ей поручают дубляж иностранных фильмов…
Все та же зловредная соседка Поляковых, Танька Фролофф, завидовала нарядам Марины, в которых она выступала перед гостями: голубое платье с синим бантом на поясе, серебряные туфельки… Но танцевала эта красотка, по мнению соседки, непристойно: «Все время пыталась задрать юбку выше головы и постоянно подмигивала мужчинам. А взрослые хлопали и хвалили ее… Она всегда была очень раскованна. А мама ее все твердила, что ее дочь станет известной актрисой…»
Следом за старшими сестрами Марина поступила в хореографическое училище при театре «Grand Opera». Уже умудренные горьким опытом, они предупреждали ее: манеры у тамошних балеринок кошмарные, так что держи ухо востро. Действительно, очень скоро соученицы попытались верховодить и помыкать Мариной, называя ее не иначе, как «sale Russe» – «мерзкая русская». «Но ничего, я сильная, – успокаивала сестер Марина, – и их луплю». Недаром же папа, воспитывая ее как мальчишку, в свое время давал ей уроки бокса! Но, сознавая свое физическое превосходство, она все же старалась не перебарщивать и не применяла силу бездумно. Правда, сознавалась Марина, как-то чуть не задушила одну девчонку, которая посмела вновь обозвать ее «грязной русской». Я повалила ее на землю и могла бы убить, если бы не дворник…
Марина не отрицала, что росла гордой, самоуверенной и дерзкой, и для близких, наверное, была невыносима. Не всегда считалась с мнением матери, отца, была разбалована до такой степени, что когда ее просили вынести мусор, могла нахально ответить: «Нет!», глядя прямо в глаза. Но только один-единственный раз получила пощечину от мамы за очередной отказ, и однажды отец наказал ее, когда она не хотела идти в школу.
Несмотря на природную пластику, гибкость и грацию, она прекрасно понимала, что второй Анной Павловой ей никогда не бывать. Для профессионального балета она, конечно, была слишком крупной девочкой.
Но, как часто бывает, палочкой-выручалочкой и стартом артистической карьеры стал случай…
У Жана Жере все было готово к началу съемок – от декораций до исполнительницы главной роли, и даже девушка с хлопушкой вызубрила свои слова и в любой момент была готова воскликнуть перед камерой: «Дубль номер один!» – но актриски на эпизодическую роль младшей сестры героини по-прежнему не было. Режиссер нервничал, весь график съемок летел к черту, продюсер недовольно фыркал чуть ли не в лицо. На правах первой актрисы Одиль Версуа решила рискнуть:
– Может быть, попробуете мою сестру?
Так состоялся дебют юной Марины на большом экране. «Сниматься в фильме в одиннадцать лет – это не совсем работа, – рассказывала счастливая девочка. – Мой первый фильм в Риме был для меня скорее приключением и чудесными каникулами, я успевала покататься на велосипеде и на роликах, а в перерывах объедалась цыплятами, пиццей, пирожными – всем, чем меня угощали. Киностудия «Чинечитта» казалась мне парком развлечений».
Приглядывать за дочерью было поручено отцу. Но, завершив «дневную смену», Владимир Васильевич, дождавшись, когда Марина уснет, на цыпочках тихонько подходил к двери – и исчезал в казино, которое, как на грех, располагалось прямо под балконом снятой для Поляковых квартиры. Утром, когда он возвращался, похожий на нашкодившего ребенка, Марина уже собиралась на съемки. Им было достаточно обменяться взглядами. У нее уже тогда проявлялся мужской характер, и в свои юные годы она запросто отчитывала отца, не переставая при этом его обожать и боготворить.
Затем Марину пригласили на съемки в английскую картину «В жизни все устраивается». Название фильма оказалось пророческим. Она сама чувствует: да-да, в жизни мадемуазель де Полякофф действительно все устраивалось. «Меня отчислили из школы «Оперы», – беспечно сообщала она подружкам. – На этом и закончилось мое образование».
Первый успех вдохновлял на новые победы, крепла вера в свой бесспорный талант и обязательный успех.
«Уважаемый господин! Узнала, что вы ищете для фильма «Утро будет поздним» девушку с бюстом, – храбро писала она известному режиссеру Леониду Могаю[1] в свои неполные 12 лет. – У меня его пока нет, но я сыграю хорошо. Если вы захотите, можно подложить что-нибудь – и вы не пожалеете!..»
Марина признавалась: «Что касается бюста… то он у меня появился. Из костлявой плоской соплячки я преобразилась во вполне зрелую, высокую, ростом в 175 сантиметров, женщину. Я восхищалась своим телом и, любуясь собой в зеркале, считала себя Венерой…»
Она восхищалась собой? А как, представьте, восхищались ею!.. Сверстники хороводились вокруг, юноши постарше уже бросали опасные взгляды, похотливые любители «лолит» просто изнемогали от желания и не находили себе места.
…Ванная комната была выложена черным кафелем, блюдцевидная посудина цвета морской бирюзы была утоплена в пол, лежа прямо у ног. Зеркало – в полный рост. Вот ее отражение – юное лицо, крепкая грудь, точеные бедра, длинные ноги. Кто бы объяснил, почему этим телом бредят те, кто именует себя сильным полом? Да и как они могут так себя называть, если готовы рабски поклоняться ей… Иногда у нее создавалось ощущение, будто весь мир вращается вокруг нее. Вся жизнь, весь смысл, все войны, все победы и поражения – все из-за нее, колдовской затейницы.
Но она не позволяет никому ничего лишнего, запретного, она занята собой и воспринимает жадные взгляды постольку-поскольку. В отличие от кокетки Дениз, которая иногда секретничала с ней, рассказывая о своих похождениях с мальчиками. Ее рассказы воспринимались как небылицы. Марина уверена, что подружка больше врет, фантазирует, чем говорит правду, пытаясь таким глупым образом утвердиться, считая ее целомудренной задавакой и глупышкой.
В четырнадцать лет она заключает очень выгодный контракт с кинокомпанией «Чинечитта» и переезжает в Рим. В титрах итальянских картин актриса пока значилась просто как «Марина». Русская фамилия, да еще двойная, продюсерам казалась слишком длинной, с трудом воспринимаемой, а потому – незапоминающейся. Думай, девочка, думай!
Свои «римские каникулы» она воспринимала как сказочный сон: «Целыми днями я бродила улицами… босиком, с распущенными волосами, в брюках и расстегнутой блузке, без бюстгальтера. Чувствовала себя богиней, привлекающей всеобщее внимание…»
При этом она не боялась никого и ничего. «Физиологическая перемена совпала с переменой образа жизни, – говорила Марина. – Я покинула семейное гнездо и бесстрашно ринулась навстречу новой жизни и карьере. Стала самостоятельной… Чувство свободы, обретенное мной, я понимала, прежде всего, как возможность «взрослой» жизни».
…То утро началось необычно. Горничная сообщила, что синьор режиссер ждет ее на завтрак в ресторане. Что за причуды, гадала Марина, спускаясь по лестнице, прежде такого еще никогда не бывало. Завтрак с мэтром?
За столиком он сидел один. Когда Марина подошла, вместо приветствия режиссер молча протянул ей пачку сигарет: кури, не прячься. Она машинально взяла сигаретку, щелкнула зажигалкой.
– Твой отец умер.
«Когда теряешь отца в таком юном возрасте, земля буквально уходит из-под ног, – вспоминала Марина. – Я очень тяжело переживала его смерть. Сразу ощутила себя взрослой, из-за чего конфликт с мамой, для которой я оставалась все еще ребенком, стал неизбежен… Теряя в моих глаза авторитет, она ужесточила тиранию, превышавшую все пределы. Мне запрещалось пить, курить, есть. Могла только спать и учить роль. Мама была очень недовольна моими крупными плечами и старалась держать меня впроголодь. Когда я возвращалась домой после 16-часового рабочего дня, слишком усталая, чтобы идти в ресторан, мне всякий раз подавали два малюсеньких пирожка с творогом – деликатес! А я хотела жрать! Это была неутоленная страсть. Порой я затягивала мать в ресторан, где набивала живот спагетти… Обожала есть все подряд, до такой степени, что когда ощущала, что больше в себя уже не впихну, выбегала в туалет опорожнить желудок, чтобы потом все начать сначала!!!»
Мама, как строгий цербер, каждый день сопровождала дочь на студию, присутствовала на съемках от начала до конца, не оставляя ее без своего внимания ни на минуту. Однажды Марина не выдержала и вспылила:
– Мама, уйди! Разве ты не видишь, что мешаешь мне работать?! Я бы хотела работать без твоих замечаний.
Милица Евгеньевна, мгновение помедлив, поднялась и, не произнеся ни слова, покинула съемочную площадку. Ради того, чтобы утихомирить нервы, она проделала весь путь в 25 км от студии «Чинечитты» до центра Рима пешком. Больше на съемочной площадке она не появлялась. Марина после, конечно, корила себя: «Я тогда не понимала, что лишила ее величайшей радости – видеть меня за работой. Думаю, что мама, наблюдая за моей карьерой, как бы брала реванш за свою серую и скромную жизнь».
Владимира Полякова-Байдарова похоронили в офицерском каре на русском православном кладбище Sainte-Genevieve-des-Bois. В память о нем Марина взяла себе творческий псевдоним – Влади, под которым ее и узнал весь киномир.
Конечно, Марина отдавала себе отчет, что все эти ее итальянские фильмы не являлись шедеврами кинематографа и были обречены на скорое забвение. Но вот ведь парадокс: сами картины стирались в памяти зрителей, но яркий образ их героини оставался. «Я играла главные роли, – без тени смущения говорила Марина, – меня узнавали на улицах, и я была этим очарована. Как-то меня пригласил на пробные съемки сам Орсон Уэллс, представляете? Он, правда, так и не снял тогда тот фильм, но между нами сразу возникли дружеские отношения».
В отличие от многих других актрис, юных дарований, кинозвездочек, Марина живо интересовалась работой настоящих мастеров кино. Узнав, что где-то рядом, в соседнем павильоне работает легендарный французский режиссер Жан Ренуар (он снимал тогда «Золотую карету» с Анной Маньяни в главной роли), она, ловя свободную минуту, стремглав мчалась туда: «Упрашивая машиниста, я пряталась за декорациями и смотрела, как Ренуар руководит съемкой. Это зрелище меня просто завораживало, благодаря ему я стала многое понимать в своей профессии».
«Jours D`Amour» – «Дни любви»
«Вечный город» дышит историей? Чувственный Рим дышит любовью!
Марина сидела в траттории и наблюдала за забавой, которую придумал хозяин заведения Марио в надежде завлечь как можно больше посетителей. В огромный, наверное, ведерный, тяжелый бокал с водой он опускал апельсин и предлагал всем желающим аккуратно положить на сверкающий оранжевый бок плода монетку. Удержится лира хоть пару секунд – получай бесплатную выпивку! Нет – монета соскользнет в воду и достанется хозяину. Желающих испытать судьбу было немало. Но монет на дне бокала гораздо больше.
«Вот так, наверное, и счастье – все время выскальзывает из рук, – думала девушка, милый грустный философ. – И вообще, существует оно? Если и существует, то не долее чем миг, поймать который трудно. Полного, бесконечного счастья, пожалуй, не существует. Счастье – это только мгновения жизни…»
Едва увидев Марину на пробах, жгучий красавец Марчелло Мастроянни[2] совершенно потерял голову Название их фильма «Дни любви» он воспринял буквально и, повторяя по-итальянски, как заклинание: «Giorni D'Amore! Giorni D'Amore!», следовал за своей очаровательной партнершей по пятам не только на съемочной площадке, но главным образом вне ее – в гостинице, в ресторане, в кафе, в лифте, да где угодно, лишь бы подальше от всевидящего ока кинокамеры, слепящих юпитеров, лишних соглядатаев и вечно насупленного синьора Джузеппе, постановщика картины.
– Как этот человек собирается снимать комедию? – возмущался Марчелло. – У него же нет чувства юмора! Кстати, сколько тебе лет, Марина? Всего пятнадцать? – Он тут же приходил в восторг. – Так это здорово! У нас завтра очень интересная сцена. Мой Паскуале должен поцеловать свою Анжелу. Ты умеешь целоваться?.. Да нет, это делается не так!.. Марина, пойми, мы всего лишь репетируем… Ты же хочешь стать настоящей актрисой? Вот и представь: старина де Сантис[3] командует: «Дубль номер три!» Нет, опять не так! Давай попробуем по-другому. Я уверен, у тебя получится…
«Марина не была красавицей. Но было в ней нечто такое, – вздыхал профессиональный киногерой-любовник, – что сражало любого мужчину с первого взгляда». Друзья Марчелло похохатывали: «Наш сердцеед, похоже, сошел с ума – он носит девчонку на руках!»
Неизвестно, вернее, известно, чем бы закончились уроки профессионального мастерства по классу «искусство флирта», но пыл Марчелло да и Марины тоже умело остужала бдительная старшая сестра Ольга, которая, по счастливому стечению обстоятельств, тоже принимала участие в «Днях любви».
Этот фильм был первой цветной европейской картиной. «Я понимала, какую ответственность возлагает на меня де Сантис, – признавалась Марина, – и это меня очень воодушевляло. Многие мне просто завидовали. То удовлетворение, которое я получила, было куда важнее популярности, узнавания на улицах… Благодаря «Дням любви» я открыла для себя то кино, которое полюбила навсегда».
Несмотря на то что жанр своей картины де Сантис обозначал как комедию, его фильм, как и прочие, имел некий политический смысл. Во всяком случае, коллеги режиссера по компартии были уверены в том, что ему удалось без прикрас показать безрадостную жизнь тружеников-земледельцев юга Италии. Основную часть съемочной группы составляли, кстати сказать, коммунисты.
В то время политические воззрения Марины Влади были весьма расплывчаты, туманны, они были не радикальными, но с присутствием «детской болезни левизны». Словом, в голове был некоторый сумбур, как у отца. Тем не менее она с азартом участвовала в акциях протеста по «делу Розенбергов», казненных по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза, бегала на демонстрации, подписывала какие-то гневные петиции, разбрасывала листовки и даже дралась с полицией. Откровенно говоря, ей просто по душе были веселые и бесшабашные молодые итальянцы, именовавшие себя коммунистами, то, как здорово они пели и, не боясь ничего и никого, клеймили позором все, что им претило.
Что же касается Мастроянни, Марина не считала нужным скрывать: «Да, я нравилась Марчелло. Но позже мы стали как брат с сестрой».
Но очередное сердечное увлечение Марины стало серьезнее. Она не могла поверить своему счастью – «Я познакомилась с Марлоном Брандо![4] Я была не просто его фанаткой, два года я сходила от него с ума. По нескольку раз смотрела все его фильмы, которые показывали в Риме. По воскресеньям, в мой единственный свободный день, регулярно просматривала четыре-пять картин с Брандо, одно присутствие которого на экране ввергало меня в невыразимый экстаз».
Она давала волю своим эмоциям. Во время демонстрации фильма «Viva Zapata!», не контролируя себя, вцепилась в мамину руку и так вертелась в кресле, что опрокинула целый зрительский ряд – человек 15 полетели на пол кувырком. Марина пыталась подражать его манерам, неспешной походке, имитировала «фирменные» позы Брандо, небрежно опираясь плечом о стену с кислой миной. А каждое утро перед выходом из дома страстно целовала огромный портрет Марлона, который украшал стену в ее комнате. Даже в совпадении начальных слогов его и ее имени девочка видела указующий перст судьбы.
«И вдруг… я встретила его на каком-то приеме в Риме, – рассказывала Марина. – Он приехал, одетый в черный плащ и широкополую шляпу, выглядел прямо по-королевски. Я застыла на месте, не смея поднять на него глаза. Но все-таки верила, что он меня заметит. Он поздоровался с несколькими знакомыми, пожал им руки и подошел… ко мне, чтобы пригласить на танец. Я чуть не умерла. Мы танцевали несколько минут молча, потом он сказал: «Тут можно скиснуть. Пойдем куда-нибудь!» Я вышла за ним и только тогда обратила внимание, что выше его ростом. Но это не имело никакого значения. Мы гуляли, выпивали в маленьких кафе…»
– Ты мечтаешь продолжать сниматься в кино? – Он покачал головой и прикоснулся к ее щеке. – Я должен предупредить тебя, mon cher (я правильно говорю?)… Не мною сказано, что искусство требует жертв… – Он медленно, как бы лениво, заглянул ей в глаза и улыбнулся. – Ты понимаешь?
– Я догадываюсь, – чуть слышно пролепетала она; шампанское уже не казалось ей таким безумно вкусным, а партнер таким неотразимым.
– Конечно, ты же умница, я знаю. Увы, девочка моя, это правда жизни. Она мало кому нравится. Кино, как покрывало, скрывает низменные страсти. И если ты действительно хочешь достичь успеха… – он притянул ее поближе к себе, – я, по всей вероятности, смогу тебе помочь.
Потом они танцевали и обнимались прямо на улице до трех часов утра. Наконец Брандо проводил Марину к дому на Виа Маргутта, где она жила.
Она помнила каждую деталь их романтической прогулки: «Все соседские коты, которых я систематически подкармливала, наблюдали за нами с удивлением – ведь еще не подошло время их кормежки! Мы подошли к дверям, а они оказались заперты, и ключа у меня не было. Я позвала маму Окно отворилось, мама выглянула и бросила мне ключ.
– Мама, ты что, не видишь, с кем я?
Мама, хорошо зная предмет моего увлечения, только и сказала: «Но он такой маленький!»
Следующим вечером они вновь встретились, долго бродили по Риму, потом еще раз и еще. Каждая прогулка казалась Марине фантастическим путешествием. Но внезапно Марлон пропал. Ей сказали: срочно уехал. Уехал? Куда? В Америку? В Англию? Зачем? На сколько? Можно ли ему позвонить?.. Она перестала есть и пить, похудела, осунулась. Ей даже хотелось умереть. В этот момент подоспело приглашение от Андре Кайатта сыграть главную роль в его фильме «Перед потопом», и Марина вернулась в Париж. Но чувствовала себя по-прежнему ужасно, закрывалась в своей комнате, плакала, била посуду. Однажды пришлось даже выламывать дверь. Позже врачи объяснили маме: у девочки сильный приступ депрессии, нужен покой и только положительные эмоции. Вы понимаете, мадам? Только положительные…
Неожиданно позвонил Он: «Приезжай. Я болен».
«Я сломя голову помчалась к нему, – позже каялась Марина. – Действительно, он лежал в постели и выглядел неважно. «Ты будешь меня лечить», – заявил он. Было ясно, что вылечить его могла только женщина. Он притянул меня и обнял. Наконец-то! Я готова была отдаться ему тотчас же! Когда он уже расстегивал мне лифчик, зазвонил телефон. Какой-то приятель интересовался, чем он занят. Я услышала его ответ по-английски: «Как раз собираюсь лишить девственности одну соплячку». В ту же секунду мое желание остыло. Я встала, надела блузку и вышла. Больше я никогда с ним не виделась. Он звонил мне много раз, но я холодно просила, чтобы он оставил меня в покое. Испытывала адские муки, но уступать не хотела. О компромиссе не могло быть и речи! Мужчины – негодяи, а их тон, манеры, выражения просто отвратительны!..»