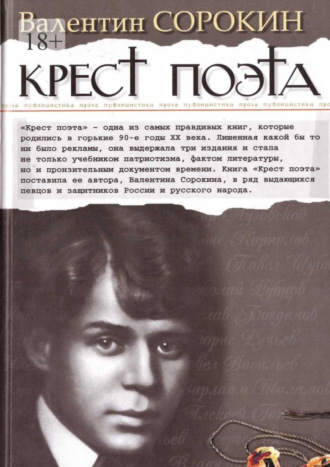
Полная версия
Крест поэта
Обобьют пахарю желание сеять, зарастет полоса полынью. Дом ссутулится. Дети родиться перестанут. Города людским хламом пополнятся. А труд и ратный подвиг в посмешище превратятся. Колос от земли, как человек от земли, оба – лишь к звездам растут…
Сдаю я экзамен по русской поэзии на Высших литературных курсах в 1965 году, а профессор Друзин:
– Захваливаете, захваливаете Есенина. Он не учел радости коллективного труда!..
– Колхозов?..
– Ну, ну…
– Колхозы Щипачев, Грибачев, Исаковский и Твардовский воспели, счастливцы!..
– Кхе-кхе… – увиливает профессор.
Литературные «парторги», с детства оторванные за уши от главного – горевой и нищей реальности, долдоны, ошарашенные съездовскими решениями и пленумными постановлениями, специально подбирали, «сочетали» и подавали читателю «идейно-мажорные» строки Есенина, нанося вред творчеству и образу поэта. Оболванивали. наивных. Но Есенин – выше «идейного мажора» и в тысячу раз ответственнее и нравственнее их замурзанных уголовных бород, впершихся в искусство, науку, экономику, историю и политику с револьвером: «Не согласен – застрелю!..»
С первого взрыва первого храма началось русское сползание во тьму, в междоусобицу и кровь. Все войны, последовавшие за этим взрывом, – навязанные нам войны оголтелыми «революционерами» планеты, жульем рынка… Все многомиллионные обелиски над братскими могилами – бессрочный укор нам. Выбили русский народ и растащили его по зарубежьям…
Друга Есенина, русского поэта Алексея Ганина, приговорили к расстрелу и быстро прикончили. За что? За что приговорили? И за что же прикончили? Русскому русским не быть? Сидит Есенин. В особняке у Дункан сидит. Паркет воском сияет. Зал – и ветру просторно. Свет высокий и спокойный.
Почему его не расстреляли? Разве Есенин достойнее Ганина, честнее, решительнее? Древний свет в зале и покой древний, а лада на душе нет, то пугаческим огнем заметется она, красным пожаром пропляшет по русским долам, то рязанской метелью завоет и свистом затеряется в грозных степях.
А Дункан с багряным шарфом танцует: «Есенин, Есенин!» – хохочет, а у самой слезы на крашеных ресницах горят и высыхают, тоскует увядающая красавица или чует смерть скорую, его смерть и свою смерть?
Свивается в кольца разгневанный шарф и развивается. Взлетает и падает перед Есениным змеем жарким, по-колдовски рассыпается и собирается из мелких частиц в дракона, крупного и хвостатого. Рябью заволокло взор Есенина. А Дункан танцует и приговаривает:
Гитара милая,
Звени, звени!
И звенит гитара. И друг его, еще не расстрелянный, Алеша, струны перебирает. Красный огонь мечется по залу, танцует пламя… Луначарский, лысый бабообожатель, появился и тут же исчез. Ягода открыл и закрыл двери. Блюмкин блокнот вытащил, зыркая, страницы слюнявит.
Но утих огонь. Прижалось красное пламя к сердцу поэта. Дрожит, сиротливое и ненужное. А в другом зале, Белоколонном, гроб поставлен. И тоже люстры сверкают. Но никто не танцует. И люди, люди, бедные и богатые, чумазые и щеголеватые, старые немолодые, люди движутся и движутся к огненному гробу глянуть на вождя огненного. О смерти соскучились? Или и траурная очередь – мираж?..
Москва? Берлин? Рим? Нью-Йорк? Париж? Сидит Есенин и покачивает русой головою. Москва, Москва.
Лейбман, а по литературному произведению Чекистов, а по псевдониму Троцкий, по настоящей фамилии Бронштейн, вождь революционных масс, в «Стране негодяев» – лирический герой, чья бесья тень возжелала сделаться Гамлетом:
Мне нравится околесина.
Видишь ли… я в жизни
Был бедней церковного мыша
И глотал вместо хлеба камни.
Но у меня была душа,
Которая хотела быть Гамлетом.
Хотят и хотят – не уймутся: Исайка – Есениным, а Лейба Троцкий – Гамлетом. Прочитав «Страну негодяев», Лев Троцкий, надо полагать, не остепенил аппетиты к величию укоризной и насмешками поэта. Он принял Есенина, пообещал ему содействие в открытии журнала в Ленинграде. Но душа Есенина и душа Троцкого не сольются в порыве русском.
Информация о Есенине, разумеется, постоянно доходила до Льва Троцкого. Есенин, видя кровавое перемалывание русских, бросался в трагический огонь правды, а Троцкий, видя непримиримое отношение Есенина к расправам над русским народом, зверел. Зверели и его подручные. Узел над головой поэта затягивался.
Считать же: как еврей, так враг поэта, как еврейка, так узурпаторша поэта, бессмысленно и глупо. Русские казнители не уступят казнителям еврейским, схожесть казнителей – зависть, ненависть к таланту, к совести и доброте. Да и в поклонницах и в женах поэта разоблачать лишь «чекистскую стратегию» смешно: американская разведка могла бы и помоложе Дункан подослать танцовщицу к Есенину – увезти его из России…
Исключать же в судьбе Есенина дьявольское око Троцкого и «тайные поручения» – наивь. Кровавый рассвет палачества не миновал золотой головы поэта. Страшно подумать: Гумилев, Блок, Есенин, Маяковский, Клюев, Васильев, Корнилов – самое лучшее, что дала нам русская поэзия того времени, – убраны пулей и травлей.
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе…
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.
Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
И:
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.
Ветер и сухие уста. Ветер и листья времени —с дерева жизни… А в Москве есть маньяк, похожий на Феликса Дзержинского: грязной панельной метлой очищает снег с цементного «котелка» Карла Маркса напротив Большого театра. Счищает и жалеет пролетарского лешего…
А как в «Анне Снегиной» дана деревенская юность? Как дана деревенская весна? Этот удивительный лунный час природы. Этот задыхающийся сад. Эти лебединые шорохи яблонь. Сергей Есенин – цветок земли, подсолнух земли. Мы часто забываем: судьба большого поэта – всегда поучительна и глобальна.
Разве способно вытерпеть Сергея Есенина звериное ухо черного человека? Черный человек, ты – наша русская беда, ты, черный человек, должен оплатить нам наши утраты, должен. Черный человек, ты нам теперь не так страшно опасен. Мы научились угадывать себя.
Черный человек – прячущий свое обличье человек: Дзержинский, отец которого – богатый Фрумкин?.. Фрумкин – тут. Фрумкин – у Кагановича, Фрумкин – Есенину мешает. Фрумкин – на «забугорных голосах»… Пропали мы!
А в «Стране негодяев» Есенин нарисовал Чекистова, разве не черного человека, разве не Фрумкина или Бронштейна? Замарашкин удивляется:
Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты еврей,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей…
Все равно в Могилеве твой дом
Чекистов
Ха-ха!
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Тяга укрощать, гримироваться, подражать – у них неистребимая тяга. Сильнее тяги к храмцлаху и к фаршированной щуке.
Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Черный человек,
Черный человек,
Черный человек
На кровать мою садится,
Черный человек
Спать не дает мне всю ночь.
Устал Есенин. Забылся Есенин. Дремлет Есенин. Черный человек идет. Черный человек идет. Впереди себя толкает женщину и ребенка. Завывает: «Я мужа ее убил! Я мужа ее убил!..» Есенин жену узнал, Изряднову, узнал. Сынишку, Юру, узнал. А Черный человек идет. А Черный человек идет.
Дремлет Есенин, дремлет. А Дункан перед окном «Англетера» танцует. Дункан танцует. Птицей скользит. Птицей скользит. А Черный человек по небоскребам идет, по небоскребам идет: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..»
Дремлет Есенин, дремлет. А над его могилкой Галя сидит. Сухую глину перебирает. А Черный человек опять воет: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..»
Раскосый. Черный. В полосатой кофте или в тельняшке. Черный человек идет. Черный человек идет. С Ордынки идет. С Шаболовки вдет. С Таганки идет. С Мясницкой идет.
* * *
А по ночной Москве Костя бежит. Таня бежит. Дети Есенина и Райх бегут: «Маму погубили!» Куда они бегут? А Черный человек: «Я мужа ее убил!.. Я мужа ее убил!..» Раскосый. Черный.
Дремлет Есенин, дремлет. И видит – мать его поднимается, седее зимы, святее смерти: «Детей твоих разорили! Сестер твоих разорили! Дом наш разорили! Зачем, сынок, я тебя родила?..» Мать стоит. Сестры стоят. А Черный человек распластывает Есенина и – каблуками, и – каблуками!.. Раскосый, черный.
Дремлет Есенин, дремлет. Тишина холодная в «Англетере». А Черный человек истаивает, истаивает. И вот он – почти карлик, верткий и беспощадный.
А Дункан танцует. Дункан танцует. Птицей скользит. Птицей скользит. И – тишина. Холодная тишина. Луна глядит в окно гостиницы, Христос ли задумался на облаке? Лишь серебристый иней в саду, как пристуженные морозцем слезы, горит и сверкает, горит и сверкает.
Проговорился Есенин, мол, правит Россией Лейба… Бухарин упоенно издевался над мертвым поэтом: то у него Есенин – мужиковствующий, то – юродствующий, то – хмельно целующий Бога, то – матерящийся в Бога, то – угрызающийся, готовый повеситься из-за вчерашних выходок, неумный, крестьянствующий ухарь и недотепа…
И это – член Политбюро, главный редактор газеты «Известия», коммунар, «закаленный в горниле борьбы» с самодержавием? Откуда у него ненависть кремлевского циника, бытового хозяйчика, самца, подержанного знатока юных девичьих достоинств?.. Не пощадил жену, «быстро устаревшую» для «выдающегося деятеля», взял, как выхватил, ее сестренку, малолетку-пышку, а тоже мудрую – члена Политбюро примахнула…
Сильно нравственный, Бухарин ерничал: дескать, не прикончили, а только всласть кое-каких подрасстреляли царей, цариц, царевен, царевичей и разных там светских барышень, немножко погрохали. Кого – в висок, кого – в сосок, кого – в сердце, но укокошили. Государь – рухнул. Государыня – упала. Дочери – мертвы. Сынишка, наследник – брыкался. А Сергей Есенин, поди, жалеет, сочувствует? Ручку «чмокал» у царицы… Стрелять надо!
Илья Эренбург еще вздохнул о Есенине. Мало одного раза? Галина Бениславская бредит. Пьет. Литератор Устинов, пообещавший рассказать о гибели Есенина, наутро был найден опочившим. Что это? Устинов еще в «Англетере» приобщился к истине сомнений? Войдя в номер, с другими, застал витающую смерть?..
Следы крови – на полу. Следы крови – на брюках. Следы крови – на рубашке. А пиджак? Шкаф отодвинут от стены. В стену – ход? Ход – двери? Закрыты, но – отворились?.. Девочка, гимназистка, в тот вечер, обнаружен ее «дневничок», – загляделась, на цыпочках, издали, в есенинское окно. Свет погас, но судорожно вспыхнул. Тени начали метаться, крутиться, за шторой, и кататься… Много догадок. Много людей, включенных в тайну гибели поэта.
Но тайны нет. Сергей Есенин убит еще до гибели. Убит подлецами, ненавидящими его русский облик, его неповторимый русский голос. Они и сейчас мстят!.. Есенину мстят. Народу мстят. Давно ли Есенина судили, обвиняя его в антисемитизме? Требовали уничтожения. Долгий суд – изуверство. Безжалостный суд – больница. В больнице Есенин решает бежать из Москвы, бежать от преследований.
Рюрик Ивнев подчеркивал: прощаясь с друзьями, сестрою Шурой и Татьяной Толстой, поэт не торопился успокаиваться, интуитивно чувствовал неотвратимое. Он ведь – «националист, монархист, черносотенец»!.. Как знакома картина, «доска почета», пестрящая ветхозаветными ярлыками. Суд над русским – за русский дар его, за русское происхождение его. А ныне, при Ельцине?..
Верный «родич» гестаповцам, застарелый и обтрепанный, как аравийский гриф, жаждущий жертвы, Лазарь Моисеевич Каганович в «Аргументах и фактах» хрипит: «Были времена похуже, но меня волнует сейчас идеологическая сторона и то, что происходит у нас. Куда завернет это „возрождение“ России? Позавчера один старичок говорил по телевизору: „У нас сейчас начинается возрождение русской культуры“. Что за чушь такая! Мелет! И разрешают ему по телевизору болтать! Возрождение русской культуры!..»
Палач взвинчен, сомневается – а вдруг возродится Россия?.. Слова «большой шовинизм», «национализм» глотает со вкусом, как горячие капли крови.
В этом же номере «Аргументов и фактов» Лев Троцкий «оплакивает» Ленина. Оказывается – любит, тоскует, помнит вождя и соратника. О Сталине цедит слюну воспоминаний: «Сталин хотел власти. Передавал ли Сталин Ленину яд, намекнув, что врачи не оставляют надежды на выздоровление, или же прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда судьба его висела на волоске, а решение зависело от маленького, совсем маленького движения его руки…»
Можно подумать – Лев Троцкий пощадил бы Сталина, если бы сел на «трон». Умеют соскребать русскую кровь с Бронштейна и Кагановича журналисты-христопродавцы, умеют. И Свердлова маскируют под «рабочий террор», но:
Не устрашуся гибели,
Ни копий, ни стрел дождей, —
Так говорил по Библии
Пророк Есенин Сергей.
И:
Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты.
Есенин! Я видел твое лицо через несколько часов после гибели. Твое лицо оставили нам фотографии и маска. Какое лицо! Вот оно – тревожное, безумно-удивленное, потрясенное, словно, споткнувшись, обнаружило на миг такое страшное зло, о котором ты, живой, лишь мог только догадываться!
Лицо огромного мыслителя. Этот лоб. Эти большие лучи глаз. Думающее, страдающее лицо. А вот – лицо мученика. А вот – лицо поэта, поразившего мир словом. Лицо, вобравшее в себя все чувственные состояния народа. Сам ли ты умер? Не толкнула ли тебя какая-то черная сила черного человека? Сам ли ты умер? Болезнь ли тебя привела к трагической черте? Болезнь ли? Горе ли? Травля убила тебя? Суды убили.
И тут же, как нечистоплотная свекровь, зашушукал Илья Эренбург: да, мол, да, о чем речь, когда Есенин, мол, тот самый, который недавно пас коров, а теперь создает модные школы, посвящает, дескать, стихи, как равному. Конфреру пророку Исайе… Модничал, носил цилиндр.
А знал ли он, деревенский и недалекий, настоящее, мол, назначение цилиндру и человеку? Стройный по своей демагогической беспощадности, Илья Эренбург не мог «уловить» Сергея Есенина, слишком разно они глядели на жизнь, на народ, на пророка и на Родину…
* * *
Из мглы небытия «возвратилась» Гиппиус, у которой мог «отнять кошелек» Сергей Есенин… «Возвратился», как его полоскали учебники, «мракобес» Мережковский. Да мало ли их, кого отправили под пулю и на «зарубежные» колеса?
Но «не возвратился» гениальный русский поэт – Сергей Есенин. Он раньше остался на века в России, припал к родной земле золотой головою и умер. Есенин – третья жертва казнителей, их «орденского» клана: Гумилев, Блок…
А за окном
Протяжный ветр рыдает,
Как будто чуя
Близость похорон.
«Ветр рыдает», звуки рыдают, рыдают слова – душе тесно… А телевидение? О есенинских праздниках не говорят, поэтов не показывают. Распомаживают незабвенную Боннэр. Есть у нас, наивных почитателей Есенина, и этакая размалеванная Нинэль. Пришел в ЦДЛ на есенинский вечер, там – Исайка. Завернул в Дом союзов, там – Андрей Дементьев. В Константинове попал, там – Олег Попцов или Познер.
Если бы наша пресса не была, в основном, не нашей, разве бы она захваливала так кровавые программы вождей революции, прорабов перестройки? Не надо ни в чем доходить до тупика, упираться в бетонную стену. Каждый, на кого я «нападаю», имеет «свое» право не меньше, чем я «свое», и никуда от этого не деться: жизнь одна, но у каждого своя, да и каждый – каждый, а не застывшая буква.
Нет у меня ни к кому зла. Пусть в их доме надежда и свет вечно согласуются. Да и можно ли о себе думать: «Только я и рассуждаю верно, а остальные – не те!» К Есенину идут, едут, тянутся. Прикоснуться – необходимые порывы человека, вдруг вспомнившего, кто он, что с ним.
Поиски нового, впереди Есенина и за спиною, предположения о его смерти, воображаемые варианты ее, нанизывание имен врагов Есенина на пику, дабы доколоть их, не врагов, а уже прах врагов – не геройство. Нужна сдержанность. Начали изучать криминалисты, эксперты, врачи, следователи обстоятельства гибели величайшего поэта, начали – полилась баланда банальностей: «Не так, а вот так, не тот, а этот, не она, а другая, не сам, а чекисты!..» И растекается отсебятина, спекулятивная жижа. Стандартники.
Красивый поэт. Вдохновенный поэт. Пощадите красоту. Пощадите вдохновение: не лезьте со «своим», не ломитесь вышибалой туда, где трепет! Не мешайте опыту. Лишь опыт позовет истину…
Начали срывать повязки с теплых ран. Начали вертеть в ножевых пальцах золотоволосую голову: «Ах, шрам, ах, порез, ах, горло сдавлено!» Да, шрам, да порез, да, горло сдавлено, да, наверное, убит палачами, но где и когда, но кем и зачем?..
Есенина не одолеть ни любовью, ни ненавистью, ни равнодушием, ни себяпроталкиванием. Смилуйтесь над ним и над нами: работайте, доказывайте молча, не ошибайтесь по редакциям заранее, авансом не орите с экранов и сцен! И не воркуйте по конторам, защищая Есенина, у него не обозначилась нужда в вас, зобастых и старательных.
Левка Шнейвас и Петька Редькин – артисты. Под «новогодней елкой» в еврейском театре зевак потешали. Левка – тонюсенькая Снегурочка, в белой шубке, полы оторочены, и в белой шапочке, нежная и румяная. А Петька – Дед Мороз, в тулупе, варежках, ушанке, и бороденка.
Левка Шнейвас, то есть Снегурочка, кокетничал, кокетничал, подмигивал и скалился, а водку из «мерзавчика» потягивал. Петька, крадучись, ее угощал. Насосались оба «на морозе»… Петька Редькин, Дед Мороз, Левку Шнейваса, Снегурочку, и оскорби при исполнении служебных обязанностей:
– Не смей алкашить, женщина!..
А та в слезы. Разобиделась, да как задаст Петьке затрещину: – Мужлан!..
Петька хохочет, и зрители хохочут. Снегурочка ревет. А милицейский чин наблюдает. Слышит, чуткий начальник. Снегурочка и Дед Мороз уже обзываются.
– Свинья! – уверяет Снегурочка…
– Дармоед! – отбрехивается Петька… – Антисемит.
Составляя на них протокол, милицейский чин зафиксировал: «Скандал на межнациональной почве!..» Но виновата не почва, а водка русская виновата:
Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,
В который миг, в который раз —
Опять, как молоко, застыли
Круги недвижущихся глаз.
Это вам – Есенин. Его послание Мариенгофу. С другом прощался и стихи ему посвятил, расист… А не Хлебников ли мой втерся на сцену со Снегурочкой вместо Петьки Редькина, жидкобородый и носом влажный?..
Запылали соблазном высказаться по поводу смерти Сергея Есенина увенчанные трибунным гвалтом Троцкий и Бухарин, соревнуясь в брюзжании. А там – Н. Осинский, Л. Клейборт, П. Коган, П. Петровский, Г. Лелевич, В. Киршон. Саранча…
Витиевато и трусливо произнес над покойным поэтом что-то невнятное Л. Сосновский: «Есенин – свихнувшийся талантливый неудачник». Так грустно обстояло дело.
Есенин, Есенин!.. Тебе слово – меч воину. Тебе слово – роса травине. А у них-то все короче и нормативнее: неудачник, и точка. А он, Сосновский, удачник? А они – удачники?..
Есенин – звезда, большая и неугасимая! Есенин. Рязань. Коловрат. Россия. Ветер. Поле. Холмы. Ока. Хочется зарыдать. Хочется припасть к земле и объясниться, покаяться перед ней, успокоить душу свою криком поэта:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.





