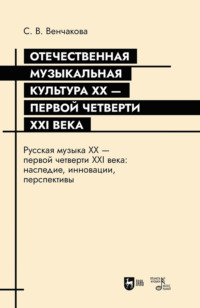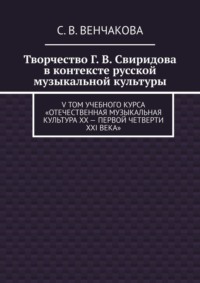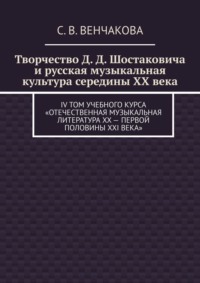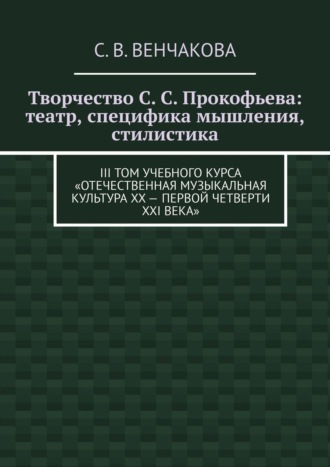
Полная версия
Творчество С. С. Прокофьева: театр, специфика мышления, стилистика. III том учебного курса «Отечественная музыкальная культура XX – первой четверти XXI века»
У М. Равеля, с которым Прокофьев не раз встречался лично, он высоко ценил «тембровую выдумку, тонкий жанр, поэзию детства. Тяготение Равеля к чуть ироничному омузыкалению речевой прозы столь же характерно и для Прокофьева (напрашивается сравнение «Гадкого утёнка» с остроумно сказочным анимализмом «Естественных историй»). Новизна и щедрая красочность письма импрессионистов во многом содействовали ладовым и тембровым исканиям русского новатора. Позднее он столь же пытливо вслушивался в музыку Онеггера, отдав должное покоряющему энергетизму «Pacific 231» [13, с. 611].
По-настоящему интересовал Прокофьева на раннем этапе его творческого пути его соотечественник-новатор, изобретатель новых музыкальных форм И. Стравинский. Особое и очень индивидуальное претворение идей Стравинского присутствует в «Скифской сюите», в «Сказке о шуте…», во Второй симфонии и многих других сочинениях. «От Стравинского он мог воспринять и технику остинатных повторов, «стоячих» гармоний, тяготения к политональным эффектам и метроритмическим «нарушениям». Более всего увлекали Прокофьева оригинальные опыты претворения русского фольклора в «Свадебке», «Прибаутках» и др. Соперничество двух новаторов русской музыки XX века – проблема очень острая и заслуживает особого рассмотрения. Оркестровые и ладогармонические находки Стравинского, его новое «слышание» русского фольклора и русской архаики были открытиями в области музыкального языка и имели огромную важность. Не следует говорить о значительном влиянии Стравинского на творчество молодого Прокофьева – имел место частичный и недолгий параллелизм устремлений обоих композиторов. Этот факт объяснялся принадлежностью к одной национальной традиции, к одной школе – оба учились у Н. Римского-Корсакова в Петербурге; единым для обоих был и исторический период начального творческого формирования. «Различным был их подход к претворению русской мелодики: Стравинский предпочитал игру коротких попевок, Прокофьев же тяготел к длинным темам, к широко-напевному мелосу. Вопреки антиоперной и антилирической тенденции Стравинского, Прокофьев искал пути к воскрешению русской психологической оперы-драмы» [13, с. 612]. В способах интонационного варьирования, в вопросах особой техники работы с отдельными попевками, в использовании политональности, полиладовости, остинатных прёмов и необычных тембровых сочетаний Прокофьев, несомненно, соприкоснулся со Стравинским. Об этом свидетельствует целый ряд сочинений, одним из которых является балет «Сказка про шута…». Оба композитора принадлежат к числу ярких новаторов в мировой музыкальной классике, оба внесли неоценимый вклад в дальнейшее развитие русской музыки, фактически указав основные пути её развития.
3. Вопросы периодизации творчества С. Прокофьева в русле стилевых и исторических аспектов
Творческая деятельность С. Прокофьева длилась более полувека. За прошедшие десятилетия композитор пережил заметную эволюцию художественных склонностей. Этот факт прежде всего обусловлен тесными связями с общественными условиями пережитой им сложной эпохи. Вопрос периодизации творческого пути композитора долгое время решался на основе внешних биографических показателей. Первое десятилетие – до 1917 года – рассматривалось не столько как годы становления его композиторской индивидуальности, сколько как период постепенного отхода от классических традиций и усиления модернистских увлечений. Далее следовал заграничный период, и последний – после окончательного возвращения в Советский Союз. И. Нестьев полагает, что «начальный, подлинно классический этап утверждения стиля не завершался у Прокофьева в 1917 году, а продолжался в общей сложности полтора десятилетия (1908 – 1923), найдя своё блистательное продолжение в первые годы пребывания за рубежом» [13, с. 13]. Интенсивное формирование творческого стиля композитора произошло именно на раннем этапе творчества и привело к созданию самобытных, художественно совершенных произведений во многих музыкальных жанрах: фортепианный цикл «Мимолётности» (1915 – 1917), ранние фортепианные сонаты: Первая f-moll (1909), Вторая d-moll (1912), Третья a-moll (1917), Четвёртая c-moll (1917); вокальный цикл на стихи А. Ахматовой (1916); «Классическая» симфония №1 (1916 – 1917); первая редакция оперы «Игрок» по сюжету Ф. Достоевского (1915 – 1916).
Многие современные исследования иллюстрируют проблему эмиграции Прокофьева с позиции «художник и власть», и по-разному объясняют причины отъезда композитора за рубеж в 1918 году и его возвращения в СССР в 1936 году. На основе анализа многих дневниковых записей, а также других материалов, связанных с жизнью и творчеством выдающегося мастера, оспариваются суждения авторов о якобы конформистских установках и художнической позиции композитора и доказывается нонконформизм С. Прокофьева как свободного художника, активно противостоящего власти. В осмыслении проблемы «Прокофьев и Советская Россия» важно не смешивать его отношение к России как к родине, с отношением к России как советской государственной, политической и идеологической системе. «Россию он бесконечно любил и ценил: русская культура, взрастившая его с юных лет, стала незыблемым национальным фундаментом его творчества разных исторических периодов (дореволюционного, зарубежного и советского), вне зависимости от присущей ему поэтики контрастов, обусловившей внезапность, подчас парадоксальность изменений и трансформаций его многоликого, поистине протеевского музыкального стиля, который как художник-новатор он постоянно обновлял и совершенствовал. Отношение к новой политической системе в России поначалу было резко отрицательным, что собственно и послужило причиной его отъезда за границу» [8, с. 41]. Революцию и Гражданскую войну композитор не принял ни как личность, ни как художник. Как известно, Прокофьев, пианист и композитор, успешно завоевал Европу и Америку. Судьба России и дальнейшие перспективы её развития волновали Прокофьева-гражданина; хотя он говорил: «Я считаю, что артист должен быть вне политики». Именно такой была твёрдая личностная позиция композитора всю жизнь. В конце 1920-х годов отношения к Прокофьеву-эмигранту радикально изменилось и стало всё более негативным и остро критичным. Важно отметить, что «С. Прокофьеву как личности с юных лет и до конца дней было присуще воспитанное с детства чувство собственного достоинства, самодостаточности, полной самостоятельности во взглядах и суждениях. Эта независимость и ощущение полной внутренней свободы проявлялось в его отношении к творчеству, в котором заключался главный смысл его музыкального и человеческого бытия» [8, с. 46].
Зарубежный период творчества (1918 – 1933) на определённом этапе русской истории (в 50-е годы XX века) было принято характеризовать как во многом кризисный. Во второй редакции своей монографии И. Нестьев [13] предлагает следующий вариант периодизации, относя отрезок времени 1918 – 1923 к периоду русскому, прямым продолжением которого он являлся. В это время были созданы: опера «Любовь к трём апельсинам» по сказке К. Гоцци (1919); Третий фортепианный концерт (1917 – 1921); балет «Сказка про шута…» (1920); начало работы над оперой «Огненный ангел» по повести В. Брюсова (1919 – 1927); к значимым сочинениям этого периода следует отнести и «Пять песен без слов» (1920). Временно находясь вне России, Прокофьев оставался глубоко русским художником, сохранял духовные связи с Родиной. В эти годы творчество композитора завоёвывало новые рубежи, находилось в состоянии постоянного поиска новых форм воплощения национального. Процесс обогащения стиля происходит, главным образом, за счёт углубления лирической сферы: создание балетов «Блудный сын» на библейский сюжет (1928); «На Днепре» (1930); Сонаты для двух скрипок (1932) и других сочинений свидетельствуют о возросшей роли психологических тенденций.
Возвращаясь на Родину, Прокофьев искренне поверил в возможность продуктивной творческой работы. «Горячо любя Россию и устремляясь к ней всей душой, с присущей ему оптимистической верой в лучшее, Прокофьев тогда ещё не понимал, в какой мере заблуждался относительно счастливой судьбы советских композиторов, особенно Н. Мясковского, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна, В. Шебалина и др., и относительно своей собственной судьбы. В ту пору он ещё не мог предположить, что стальная рука власти через несколько лет „перекроет кислород“ его современникам и ему самому» [8, с. 53].
Последний период творчества (1934 – 1953) отмечен многими исследователями как наиболее успешный. Именно в это время композитор достиг особой высокой простоты стиля, к которой он стремился на протяжении предшествующих лет. Ещё находясь за рубежом, Прокофьев гастролировал в СССР в 1927, 1929, 1932 годах. Созданные в последний период творчества сочинения по праву вошли в золотой фонд мировой музыкальной классики: балеты «Ромео и Джульетта» (1935 – 1936); «Золушка» (1940 – 1944); «Сказ о каменном цветке» по сказам П. Бажова (1948 – 1950); кантата «Александр Невский» (1939); симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (1936); оперы «Семён Котко» по повести В. Катаева «Я, сын трудового народа» (1939); «Война и мир» по роману Л. Толстого (1941 – 1952); оратория «На страже мира» на сл. С. Маршака (1950); триада фортепианных сонат – Шестая A-dur (1939 – 1940); Седьмая B-dur (1939 – 1942); Восьмая B-dur (1939 – 1944); Девятая С-dur (1947); Пятая симфония B-dur (1944); Шестая симфония es-moll (1945 – 1947); Седьмая симфония cis-moll (1951 – 1952).
Прокофьев принадлежал к числу художников, не склонных к теоретическому обоснованию своих принципов. Многие оправдавшие себя художественные средства, найденные на раннем этапе творчества, сохранялись в его арсенале до последних лет, совершенствуясь и подчиняясь новым требованиям. «У меня нет никакой теории, – ответил как-то Прокофьев на вопрос о сущности его музыкального новаторства. Он считал, что «теоретизирующий» композитор, изобретая искусственные догмы, тем самым сковывает свою фантазию – «с того момента, как художник сформулирует свою «логику», он начинает ограничивать себя», – говорил Прокофьев. Смысл своего новаторства он объяснял не какой-либо умозрительной системой, а стремлением к наиболее точному выражению увлекавших его идей. «Я всегда чувствовал потребность самостоятельного мышления и следования своим собственным идеям… Я никогда не хотел что-либо делать только потому, что этого требуют правила» [цит. по 13, с. 600]. В исследованиях советского периода встречаются утверждения, что «простота» высказывания, о которой Прокофьев часто говорит в статьях и интервью середины и второй половины 30-х годов, и которую он понимает прежде всего как «ясность и мелодичность языка, созвучного эпохе социализма», но не как упрощённость и подлаживание под аудиторию, даётся Прокофьеву не сразу и не во всех жанрах в равной мере. Жанр массовой песни, например, он так и не освоил. И всё же опыты в сфере песни оказались весьма плодотворными для дальнейшего развития советской песни-романса в плане расширения границ жанра. Эти опыты, равно как и обработки народных песен, которыми Прокофьев много занимался в те годы, отразились на языке ряда крупных произведений – музыке к кантате «Александр Невский», опер «Семён Котко», «Война и мир», и многих других шедевров советского периода.
Ученические годы Прокофьева совпали с периодом расцвета творчества Рахманинова (до эмиграции), и последними годами жизни и творчества Скрябина. У Рахманинова он отмечал особую природу мелодизма, лирику; влияние Скрябина в области гармонии прослеживается в ряде ранних сочинений Прокофьева. Тяга молодого композитора к сказочным и фантастическим образам, продолжающая традиции многих русских классиков, была созвучна творчеству ряда поэтов и художников рубежа XIX – начала XX веков. Впоследствии Прокофьев находился в естественном русле явлений художественной жизни Запада, вкусов и настроений музыкальных кругов интеллигенции Парижа, где он обосновался с 1923 года. Установились тесные контакты с композиторами «Французской шестёрки» – Ф. Пуленком, А. Онеггером, Д. Мийо, с которыми Прокофьев много выступал в рамках концертных программ. Тонкий художественный вкус Прокофьева, взращённый на классическом наследии, направил искания композитора в русло мирискустничества, к содружеству с А. Бенуа и С. Дягилевым, утвердившим приоритет зрелищных видов искусств в столице мировой моды – Париже. В рамках работы «Русских сезонов» С. Дягилева были представлены «Жар-птица» И. Стравинского и некоторые другие его неофольклорные балеты; прокофьевские «Скифская сюита» (первоначально эта работа называлась «Ала и Лоллий») и балаганно-эксцентричный балет «Шут».
Современные исследователи отмечают, что «в начале творческого пути Прокофьев был весьма далёк от лирической исповедальности, свойственной романтизму. Если судить по его ранним операм „Маддалена“, „Игрок“, „Огненный ангел“, сюжеты которых наиболее приближены к романтической поэтике, композитору удаётся встать над романтическим эмоционализмом, подчёркивая свою отстранённость от психологических рефлексий, на которые провоцируют драматические, порой, экспрессионистские сюжетные ситуации. Их эмоциональному гипнозу, втягивающему слушателя в чувственное сопереживание, в музыке Прокофьева противостоят своеобразные заградительные барьеры в виде гротесковых авторских комментариев, переключающих внимание на объективное, рациональное, аналитическое восприятие» [16, с. 44]. «При всей дерзости антиромантических выпадов молодого автора романтизм остался одним из неявных, но глубоко лежащих свойств его натуры. Иначе нельзя объяснить ни экспрессионизм „Огненного ангела“, ни изысканно импрессионистическую лирику „Мимолётностей“, ни прогрессирующий эмоционализм поздних опусов. Романтическая constanta личности Прокофьева проявилась и в поэтизации образов старины, наряду с моментами юмористического обыгрывания их» [цит. по 16, с. 46]. Эта оценка романтического у Прокофьева естественно соотносится с классико-романтической сутью эпического в творчестве композитора.
В 30 – 40-е годы в творчество Прокофьева, пережившего личную трагедию, всё заметнее проникает драматическая образность как отклик на события современности. И даже в этой ситуации лирика Прокофьева, «бескрайняя в эмоционально-образных оттенках, утверждающая классические идеи прекрасного, сама становится символом красоты, гармонии, нетленности мечты и противостоит дисгармонии XX столетия» [16, с. 46]. Прокофьев всегда оставался объективно мыслящим художником, не позволяя трагическому стать критерием жизни, подавив вечное.
Анализируя на новом историческом этапе многие процессы, происходившие в русле советского общества на различных этапах его существования, русские и зарубежные исследователи находятся на разных идеологических позициях, объективно сравнивая различные явления. Прокофьев явился современником многих исторически глобальных событий – Октябрьской революции, Гражданской и Великой отечественной войн, пережил период эмиграции. Он никогда не шёл на поводу чужих художественных вкусов, всю жизнь отстаивая своё право на независимость взглядов и оставался до конца русским композитором. И всё же существует ряд объективных фактов биографии Прокофьева, повлиявших на судьбы многих его сочинений и рассматриваемых сейчас с позиции временной дистанции.
Исследователь М. Банья (Аргентина), автор работы «Композитор как интеллигент и опера как альтернативное повествование о первых годах русской революции в эпоху сталинизма (об опере «Семён Котко» С. Прокофьева)» отмечает: «К середине 1960-х годов в СССР начался процесс критического переосмысления прошлого и появились исследования, в которых осуждался крайний идеологизм, контроль над всеми средствами массовой информации и другие недостатки тоталитарной системы» [2, с. 188]. Автор работы доказывает, как можно было противостоять авторитарной власти через создание альтернативного исторического дискурса с использованием музыки и драмы на примере первой «советской» оперы С. Прокофьева. Театр и опера, как и многие другие явления культуры, имели основополагающее значение в создании образа нового советского общества. Благодаря своим эстетическим возможностям опера, рассматриваемая как прямой продукт социалистического реализма и проводник политической пропаганды, заняла привилегированное место в советской культурной жизни. Композитор в условиях напряжённой атмосферы преследования творческой интеллигенции смело выстраивает исторический дискурс, отличный от официального, как одной из форм сопротивления в период сталинского режима. Как известно, Прокофьев возвращается в СССР, проведя долгое время в Европе и США, отчасти вдохновившись успехом своих работ. На Родине он в полной мере испытал на себе давление цензуры, потерял семью. Независимо от этих причин, идея сочинения «советской» оперы возникло у него давно, но возникли трудности при выборе сюжета – композитор хотел представить реальную историю. В романе В. Катаева «Я, сын трудового народа» (1938) – история любви участника Первой мировой войны и его невесты – дочери кулака. Либретто было создано обоими авторами, постановкой занимался В. Мейерхольд. «Прокофьев знал, что если он хочет иметь определённое влияние, то ему нужно прибегнуть к опере» [2, с. 193]. Наряду с любовной историей «параллельно прочитывается интерпретация первых годов революции, которая отличается от официальной и допускает возможность критики и сопротивления режиму. Из текста либретто с помощью музыки Прокофьев создаёт ряд элементов, дающих основание для размышлений над реалиями истории… Первое, на что Прокофьев обращает внимание – это вопрос поколений, почти забытый в официальной версии. Требования молодых людей, стремящихся к освобождению от длящегося десятилетиями семейного гнёта, не упоминаются в качестве важнейших составляющих революционного движения. Ещё один важный момент – индивидуальные интересы в противовес коллективным; а также вопрос субъекта революции и национальностей – согласно официальной версии, именно рабочий класс, возглавляемый большевистской партией, совершил революцию в России, создав новое общество» [2, с. 194 – 196]. «Перед началом развития оперы Прокофьев музыкально сказал нам то, что последует в исторической реальности» [2, с. 198]. Выбор специфического сюжета и смелая расстановка акцентов в осмыслении произведения самим автором подтверждает высокую позицию композитора – Гражданина.
4. Некоторые черты мелодики Прокофьева в контексте эволюции стиля
Многие исследователи полагают, что после возвращения в СССР, Прокофьев всерьёз размышлял о возможных путях развития русской музыки, причём его мысли не утратили своей актуальности и в условиях современной культуры: «Музыку прежде всего надо сочинять большую, т. е. такую, где и замысел и техническое выполнение соответствовали бы размаху эпохи… Она должна быть прежде всего мелодийной, притом мелодия – простой и понятной, не сбиваясь ни на перепевку, ни на тривиальный оборот… Простота должна быть не старой простотой, а новой простотой» [цит. по 8, с. 56].
Выдающиеся художественные открытия Прокофьева в области мелодики общепризнаны, хотя и в настоящее время служат объектом пристального внимания музыковедов всего мира. Потребовалось много времени, прежде чем новая простота интонационного содержания прокофьевской мелодики стала понятной слушателям. Сейчас композитор считается одним из непревзойденных лириков и мелодистов, а в его музыке присутствует то естественное свойство, родственное с восприятием классической музыки – выявление мыслей, чувствований и впечатлений от внешнего мира через мелодику. Музыковед М. Арановский [1], автор специального исследования «Мелодика С. Прокофьева», отмечает: «Прокофьев высоко ценил значение мелодического искусства именно в то время, когда в ряде направлений европейской музыке обозначился его кризис. Последовательное утверждение Прокофьева эстетической и формообразующей функции мелодии явилось реакцией на распад линии у Дебюсси и Скрябина, а в дальнейшем шло вразрез с устремлениями Шёнберга и его последователей. Более того, даже среди лидеров музыкального искусства XX века, не отказавшихся от мелодического тематизма в его различных проявлениях (Стравинский досерийного периода, Барток, Хиндемит, Онеггер, Шостакович), Прокофьев выделяется особым вниманием к кантилене. Ни у кого из них мелодия не приобрела столь важного композиционного значения и не заняла столь большого места в творческом процессе» [1, с. 3].
Позиция Прокофьева является позицией подлинного новатора, необычайно широко раздвинувшего возможности таких аспектов музыкального языка, как ритмика, лад, гармония, и прозорливо отстаивавшего непреходящую эстетическую ценность мелодии. «Его новаторство в этой области состояло не только в возрождении формообразующей функции горизонтали, но и в обновлении мелодии изнутри, её образного, интонационного, ладового строя. Переосмысляя традиционные элементы мелодической техники, он создал новый мелодический стиль, вызванный к жизни необходимостью воплощения нового содержания» [1, с. 4]. Работа М. Арановского посвящена одному из видов мелодики – кантилене, как наиболее яркому выражению мелодического начала в целом. Автор полагает, что именно кантилена содержит важнейшие художественные открытия композитора в области мелодики, и именно здесь обнаружилось своеобразие его мелодического мышления. В процессе непрерывной эволюции мелодический стиль Прокофьева включал всё больше элементов из «интонационного словаря», различные этапы развития включали и отношение Прокофьева к проблеме мелодического тематизма и его роли в структуре целого.
С позиции временной дистанции мелодика Прокофьева раннего периода творчества рассматривается как явление глубоко своеобразное, обладающее особыми стилевыми качествами. Исследователи полагают, что мелодика раннего периода подготавливает кантилену 30 – 50 годов. Мелодический стиль раннего Прокофьева нельзя изучать вне конкретной исторической ситуации и художественных тенденций, сложившихся в русском музыкальном искусстве в начале XX века.
В начале XX века следует отметить несколько ведущих тенденций, определивших некоторые перспективы развития европейской музыки: изменение логических и конструктивных возможностей гармонии (Вагнер); внефункциональное употребление гармонии в рамках утраты ладовых связей (Дебюсси); эмансипация диссонанса, приведшая к возникновению атональности (Шёнберг). Иные перспективы были связаны с усилением позиций лада и тематизма, что во многом определило облик музыки Бартока и сыграло огромную роль в становлении стиля Стравинского и Прокофьева. «Творчество Прокофьева обращено к живой реальности. Он прежде всего художник-наблюдатель. Его музыкальные идеи возникают из переработки жизненных впечатлений. Окружающее привлекает его богатством контрастов, характерностью каждого явления. Он ощущает вещность, физическую плотность всего сущего. Импрессионистской неопределённости он смело противопоставил материальность мира, передав её в рисунке фактуры, в „твёрдости“ гармонического начала, в динамике звукового потока, в ритмической энергии и мощи акустических объёмов» [1, с. 52]. Следует особо отметить роль рационалистического начала в творческом процессе Прокофьева, сказавшегося главным образом в структурном мышлении и в строгой графике линеарной ткани. Раннее творчество Прокофьева характеризуется созданием резко контрастных произведений – эксцентричного балета «Шут» и лирического Первого скрипичного концерта; «варварской» Скифской сюиты («Ала и Лоллий») и Классической симфонии; буффонады «Любовь к трём апельсинам» и остропсихологической оперы «Игрок». Вместе с тем, именно на раннем этапе творчества формировались некоторые доминирующие линии, определившие впоследствии место Прокофьева в истории русской музыки. Следует говорить о сказочно-эпической линии: балет «Сказка о шуте…» (1920), Второй (1923) и Третий фортепианные концерты (1917 – 1921), «Сказки старой бабушки» (1918). Неуклонно возраставший интерес к психологическим коллизиям и разным человеческим характерам привёл к созданию опер «Маддалена» по пьесе М. Ливен (1913), «Игрок» по Ф. Достоевскому (1915 – 1916), цикла «Гадкий утёнок» по Г. Андерсену (1914), цикла «Сарказмы» (1912 – 1914). Лирическая линия творчества проявилась в произведениях: «Мимолётности» (1915 – 1917), Вторая (1912) и Третья (1907) фортепианные сонаты, Первый скрипичный концерт (1916 – 1917). Впоследствии именно на этой лирической основе возникнут женские образы-портреты: Джульетта, Золушка, Наташа Ростова.
«В творчестве раннего Прокофьева тематическая концепция музыки переживает подлинное возрождение. «Прокофьев мыслил архитектонически завершёнными, целостными мелодическими линиями с традиционным фразовым строением. В разнообразном мире его тематических идей, принимавших вид то моторно-токкатной, то аккордово-вертикальной, то комплексной фактуры, мелодический тематизм занимает главное место. Тому были эстетико-психологические причины. Музыкальный образ возникал как эквивалент сгустка жизненных впечатлений, как аналогия конкретному явлению, и поэтому требовал законченной формы, архитектонической ясности. Тема должна была стать микрокосмосом, обладающим самостоятельной сущностью, ограниченностью, сформировавшегося явления. Эта близкая к традиционной концепции мелодия зиждется на гомофонических принципах, которым Прокофьев не изменяет, так как они обеспечивают рельефность мелодическому голосу – в рамках гомофонной конструкции он мыслит линеарно» [1, с. 57]. Характерно для Прокофьева и стремление к разреженной музыкальной ткани, к экспрессии или моторике графического двухголосия. Как и у Стравинского, лад обнаруживает свою логику в горизонтальном развёртывании. Особенно любит Прокофьев подчёркивать область ладовой периферии, что создаёт оттенки тональной переменности. Самостоятельность голосов или слоев приводит к образованию сложноладовой вертикали. Как правило, гармония, образующаяся в нижних голосах, корректирует ладовый ракурс мелодии, смещая оттенки и акценты, нивелируя устои и подчёркивая неустои. Эта линеарная логика в конечном счёте приводит к ладотональной многозначности и политональности. Но в музыке Прокофьева политональность присутствует как потенциальная возможность, а не принцип (эта черта отличает Прокофьева от раннего Стравинского)» [1, с. 58]. Важность индивидуальности темы и создания условий для наиболее полного проявления её художественных свойств станет творческим credo Прокофьева на протяжении всей его творческой жизни и обусловит несколько преобладающих типов формообразований в его музыке (в частности, вариантность и создание нового тематизма, продолжающего мысль или контрастирующего ей). Прокофьевский тематизм обладает особой степенью обобщенности и содержательности, и такая его внутренняя активность не способствует дополнительной разработке. «Прокофьевская вариантность (и в этом её особенность) следует не из анализа темы, а утверждение её как целостной данности, более полное раскрытие с помощью элементов образной художественной индивидуальности» [1, с. 62]. Так, тематическая трактовка формы Прокофьева проявляется в укрупнении составляющих её разделов и сопоставлении цельных тематических пластов, отрицающих дробление материала.