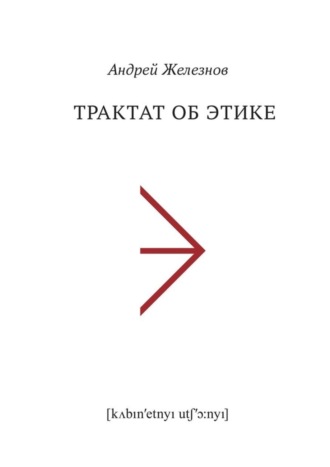
Полная версия
Трактат об этике
Этика модусов существования и паралич морального выбора
Утрата долженствования из-за отказа от твердых метафизических оснований – это проблема, прежде всего, даже не теоретическая, а практическая. Она парализует этический выбор. У Фуко это проявляется не самым явным образом, так как он все-таки делает выбор в пользу вполне конкретного способа существования, который признает моральным. Наиболее четко это видно в этике Делеза.
Делез именует свой подход «имманентной этикой», предполагая, что моральное поведение – это не следование некоторому внешнему (трансцендентному) закону, но выражение собственной имманентной природы. Однако прочтение этики как «следования собственной природе», также как и у Ницше, приводит к необходимости прояснения этой природы. И тут Делез оказывается в сложной ситуации: он не может просто утверждать тождество существования и воли к власти. Более того, для Делеза не может быть и единого ответа на вопрос об имманентном содержании существования, ведь вместо единого субъекта мы имеем множество модусов существования. Получается, что принятие этического решения предполагает выбор между множеством равноценных модусов, а этот выбор, строго говоря, невозможен. Утвердив некоторый критерий выбора, мы бы вывели один из модусов существования в привилегированное состояние, сделали бы его аналогом субъекта или природы.
В контексте множественности модусов этический выбор может описываться как борьба между мотивами или способами существования (модусами). «Таким образом, что же я имею в виду, когда говорю „Я стараюсь бросить курить“, даже если тот же самый Я продолжаю курить? Это просто означает, что мое сознание, интеллект занимает сторону и ассоциирует себя с конкретным мотивом. … Когда мы говорим про „Я“, мы просто отмечаем некоторый мотив, который в этот момент наиболее силен и властен» [Smith 2001: 128—129]. И далее: «Здесь движение души, как говорит Лейбниц, более напоминает маятник, чем баланс – и часто достаточно сильно раскачивающийся маятник. Вопрос о решении – это вопрос: „На какой стороне я остановлю свою душу? На какой временной склонности и восприятии я сделаю „решающую“ остановку?“ Принятие решения – это вопрос интеграции (используя математический термин) мгновенных восприятий и склонностей в „выдающиеся“ восприятия или „значимые“ склонности» [Smith 2001: 134]. Эта теоретическая перспектива уничтожает саму возможность этического вопрошания. Этика должна бы отвечать на вопрос о том, что мне выбрать, как мне действовать, но выбор между равноценными способами существования просто не имеет смысла: не может быть единого основания для их сравнения и оценки. Может ли модус решать, в какой другой модус ему перейти? Можно ли, существуя определенным способом, оценивать другие способы существования?
Делез все же пытается решить проблему этического выбора и построить этику, которая различала бы хорошие и плохие способы существования. Это различение должно происходить, исходя из отношения способа (модуса) существования к реализации способности к существованию. Модус существования оценивается исходя из того, насколько он способен реализоваться, дойти до предельного выражения способности действовать. Или, наоборот, насколько он блокирует способность действовать и превращается в «немощь». Эта оценка выражается в различных формулах: «всегда бывает только один критерий – экзистенциальная емкость, интенсификация жизни» [Делез Гватари 1998: 97], или этическая задача заключается в «расширении, интенсификации, возвышении возможностей, росте размеров, увеличении незаурядности» [Делез 1997: 130]. Имманентный модус существования, таким образом, должен оцениваться в соответствии с чисто интенсивным критерием способности к существованию. Но эта гипотеза остается проблематичной. Нам следует задать вопрос о том, каким образом, в качестве кого и с какой позиции можно оценивать эту интенсивность жизни или способность к действию.
Делез пробует ответить на этот вопрос через работу с текстом Спинозы, рассматривая «счастье» как способность к активному действию. В определении «счастья» мы можем увидеть следующее утверждение: «Человек – самый могущественный из конечных модусов – свободен, когда овладевает собственной способностью к действию, то есть, когда его conatus задается адекватными идеями, из которых следуют активные аффекты, объясняемые его [человека] сущностью. Свобода всегда связана с сущностью и с тем, что из нее вытекает, а не с волей и с тем, что ею управляет» [Делез 2001: 398]. Однако несложно вспомнить, что у Спинозы возможность выбрать или познать адекватную идею определяется познанием единого источника, из которого эти идеи происходят – субстанции. Если же мы отказываемся от возможности не только познать субстанцию, но вообще от сведения всего множества проявлений к единому основанию (которое и станет в конечном итоге законом или критерием для выбора), то таким образом сам этический выбор оказывается фикцией.
Проблема проекта имманентной этики напрямую связана с устройством онтологического обоснования морали. После деконструкции понятия природы (или сущности) этика потеряла силу долженствования – она не может больше ни на что опереться. Нет никаких разумных причин или оснований для того, чтобы воспринимать как должное реализацию одного из множества равноценных модусов существования. Отказавшись от подчинения морали сущности или природе, имманентная этика не предлагает никакого альтернативного источника должного и, таким образом, теряет возможность осуществления морального выбора.
Экстремальная этика события Бадью
Имманентная этика Делеза – это не единственный подход к построению этики в условиях онтологии множества или различия. Другой способ предлагает Ален Бадью. Он не пытается связать этику с внутренним содержанием существования или свойствами индивида. Вместо этого этика связывается с понятием бытия (события). Бадью называет «добром» или лучшим то, что соответствует событию, где событие – это чистое проявление бытия как такового или проявление истины. Человек, участвуя в событии, делает то, что Бадью называет «дать путь истине». «Бессмертие» или сущность человека утверждается в его возможности участия в истине, а «добро» – это именно утверждение истины, активное действие.
Бадью формулирует императив, который должен бы описывать следование бытию. Это императив перехода из одного способа существования к другому или от одного сущего к другому: «Делай все, что можешь, упорствуя в продлении того, что избыточно к твоему продлевающему упорствованию. Упорствуй в прерывании, охватывай в своем бытии то, что охватило и прорвало тебя» [Бадью 2006: 73]. Участие в событии, которое не определено ничем из существующего, но которое способно породить новое существующее – это и есть момент истины и момент вечности, в котором заключается собственно человеческое бытие. Бадью предлагает действовать, исходя из возможности ввязаться в событие, безотносительно к свойствам субъекта, которые присутствуют в его существовании.
Таким образом, предлагается обойти проблему отсутствия точки зрения: не множественное и различное сущее определяет моральность, а бытие. Участие в событии представляет собой добро всегда, независимо от субъекта. Однако предлагаемая концепция содержит иную проблему: Бадью должен предложить нам критерий, позволяющий определить, соотносятся ли наши действия с бытием или нет. Это своего рода «сверхтребование»: события должны оцениваться, причем заранее, до того как они случились. Индивид может поступить этично только в том случае, если он заранее определил событие, сумел увидеть его за действиями, связанными исключительно с выживанием, и сумел отличить его от искажения (то есть зла).
Из-за этого добро у Бадью экстремально и невозможно для любого (простого) человека в его обычной жизни. Примеры истины и добра – это примеры маргинальные или экстремальные – художника, ученого, политического активиста, влюбленного. Этика Бадью не предоставляет нам возможности оценивать собственные поступки – большинство из них происходит в обычной жизни и в логике обычной жизни. Эту проблему прекрасно иллюстрирует разобранный в «Этике» пример зла, а именно нацизм. Нацизм не является повторяющимся в повседневной жизни явлением, его сложно рассматривать как пример относящийся лично к моей жизни. Концентрируясь на экстремальных событиях, на тех случаях, когда участие в событии явно и бесспорно, Бадью фактически оставляет нас без этики: в том случае, когда непонятно направление события, у нас по-прежнему нет никакой точки зрения, с которой можно было бы судить о должном.
Этика события, которая балансирует между следованием сущности индивида и методологией выявления события (из ряда обычных явлений), приходит в тупик. Найти такую точку зрения, которая позволяла бы нам принимать этическое решение, не удается – само событие не является точкой, а его характеристики (в виде сущности или в виде процесса) даны только постфактум, в тот момент, когда решение уже состоялось.
Таким образом, этика Бадью подтверждает общую проблему деконструкции морали. Освободившись от метафизической или трансцендентной подмены, от подчинения морального общему устройству мира, она не в состоянии предложить основания морали. Критика и деконструкция традиционных, метафизических оснований морали не сопровождается деконструкцией самого отношения между моралью и онтологией. Поэтому, оказавшись без онтологических оснований, мы оказываемся и без этики. Концентрируясь на том, чем не может быть этика, мы в итоге упускаем и то, чем она могла бы быть.
Анализ опыта мышления морального поступка
Задачи и критерии методологии построения морали
Для того чтобы обойти ограничение традиционного подхода и его деконструкции мы собираемся сформулировать собственную методологическую позицию. Ограничение заключалось в отсутствии критериев должного вне онтологического обоснования – кратко напомним логику, в которой формируются эти проблемы.
«Онтологическим обоснованием» мы называли подход, предполагающий, что мораль следует из общих законов устройства мира или устройства человеческой природы. Он реализуется в классических философских системах, где исследование морали следует за формированием онтологии (или антропологии), может быть реализован «рационалистически», когда общие законы мира или человеческой природы исследуются априорно, либо «эмпирически», когда они выводятся из анализа опыта. В любом случае, онтологическое обоснование морали отвечает на вопрос, «чем должна быть мораль исходя из известных принципов», но не «чем она фактически является».
Сильная сторона такого подхода – это видимая последовательность и логическая стройность. Так как мораль представляет собой реализацию или воплощение общих принципов устройства мира, человеческой природы или общества, то сила морального долженствования следует из всеобщего закона. Его слабая сторона – внутренняя противоречивость. Если действовать морально – это естественно или разумно, то получается, что мораль как таковая вовсе не требуется. Достаточно просто рационально и прагматично следовать общему устройству мира или человека, и никакого особенного морального контекста не требуется. Моральные поступки становятся в таком контексте вовсе не моральными, а естественными, необходимыми или рациональными.
Зависимость морали от онтологии приводит к тому, что мораль рушится вместе с сомнениями в фундаментальных философских принципах, на которых основана. Моральный выбор подчиняется совершенно нетривиальному выбору онтологии: чтобы получить критерий для собственных поступков, нужно разобраться во всех онтологических или антропологических полутонах. Есть и более принципиальное возражение: сама подмена морального онтологическим вызывает неприятие. Она вызывает бунт Ивана Карамазова, который не хочет рациональной необходимости, но вместе с тем чувствует потребность в морали.
Критика классических онтологий в философии со второй половины XX века реализует эти проблемы. Вслед за признанием отсутствия всеобщих законов и универсальной человеческой природы подрываются основания морали. Мы называем этот подход деконструкцией морали, предполагая его родство с общей деконструкцией, критикой метафизики, онтотелеологии и т. д. Его результатом является раскрытие противоречивости, антиномичности морали и моральных суждений. В результате деконструкции утверждается принципиальная невозможность для морали быть следствием общего долженствования, стоящего «над» имманентной природой индивида. Таким образом происходит освобождение этического дискурса от ограничений традиционного подхода. Однако после отказа от обманчивой прочности метафизического обоснования морали нам не предлагается никакой альтернативы. Мы теряем саму возможность вынести суждение о должном.
В качестве одной из альтернатив место общего основания занимает имманентное содержание, или имманентные модусы существования. Вопрос о том, «что я должен делать по всеобщему закону» заменяется вопросом: «что соответствует моему актуальному способу существования». Это не снимает проблемы: в ситуации сосуществования множества модусов выбор между ними не представляется возможным. Равноценность модусов предполагает отсутствие принципиального критерия, который позволил бы нам решить, какому из модусов мы должны отдать предпочтение. Выбор поэтому оказывается случайным, то есть не моральным.
Упрощая ситуацию, можно сказать, что вместо единой общей морали нам предлагается множество частных или личных. И, если на концептуальном уровне это выглядит как выход, то на уровне практического вопроса «как мне поступить» начинаются проблемы. Чтобы выяснить это, нужно определить содержание, которое приписывается моему «я», и соответственно которому мне предлагается поступать. Для этого я буду должен осуществить метафизический жест и идентифицировать в качестве собственной природы нечто конечное. Либо отказаться от самой этой попытки определения. Разрушив спекулятивные основания морали, деконструкция приводит нас к бессилию и утрате возможности выбора мы не можем утверждать должное. :
Чтобы выйти из этой ситуации нам требуется методология, которая избегала бы проблем как классического, так и постмодернистского подхода. В ее основе должен лежать такой жест, который свободен от привязки к онтологии, антропологии или от потребности в метафизическом решении. И в то же время она должна позволить нам однозначно определять моральное должное в практическом смысле, то есть давать критерий для оценки собственных намерений. Сочетание этих требований можно сформулировать и иным образом: мы должны научиться определять должное без ссылок на что-то внешнее. То есть получить мораль, которая обосновывает себя сама.
Принцип имманентности этики
В таком контексте разумно вспомнить делезовское понятие «имманентной этики». «Имманентность» в том смысле, как о ней говорит Делез, предполагает данность явления самого по себе. Нельзя быть имманентным чему-то. Имманентным можно быть только самому себе. Субстанция у Спинозы имманентна потому, что она является причиной самой себя и выражает себя через собственные атрибуты и модусы. Она не только является причиной самой себя, но еще и раскрывается через себя, то есть не опосредуется ни в чем, чем бы сама не являлась.
Поэтому, когда мы утверждаем, что источником морального должного не может быть что-то внеморальное, мы фактически требуем от этики имманентности. Вопрос об этике оказывается вопросом об имманентной этике. Если мы хотим открыть настоящую мораль, то это должна быть такая мораль, которая не является выражением законов, личности или способов существования, между которыми возможен выбор. Мораль, которая вообще не является выражением чего-либо.
В отличие от самого Делеза, который в итоге свел этику к модусам существования или характеристикам личности и случайному стечению обстоятельств ее истории, мы должны пойти дальше и задать вопрос об имманентной этике во всей строгости. Эта строгость возможна, если мы будем действовать предельно формально. Пытаясь выяснить, что же такое этика, мы должны отказать себе в любой попытке обнаружить ее истоки в чем-то другом. Мы должны сконцентрироваться на том, как именно моральное дается нам, как оно нам является. Мы должны разобраться с тем, как мы мыслим мораль безотносительно ее объяснения через что-то иное.
Такая постановка проблемы подводит нас к следующему важному тезису. Имманентная этика по определению должна быть очевидной. И это принципиальный для нас момент. Мы утверждаем, что уже умеем определять, когда мы действуем морально, а когда действуем вне морали. Это не означает, что мы «знаем, как делать правильно». Речь о том, что мы знаем, когда наши поступки направляются именно моральными мотивами и рассуждениями. Поэтому анализ морального должен быть направлен на эти факты осознания собственного морального опыта. Мы собираемся выяснить, что мы мыслим или называем моральным.
Наш подход предполагает некоторый «онтологический аскетизм» – воздержание от суждений о человеческой природе или целях до того, как мы собственно выясним, что такое мораль. Из анализа данности нам морали как таковой мы планируем узнать, ради чего мы на самом деле действуем морально, какой смысл вкладываем в моральный поступок. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос о том, какова должна быть мораль или что следовало бы считать моральным, мы должны сперва ответить на вопрос «что мы на самом деле считаем моральным». Или обосновать этику не сверху вниз, а снизу вверх.
Эта линия нашей работы, бесспорно, связана с деконструкцией морали, которую мы обсуждали выше. Однако, наша цель или наше применение деконструкции инструментально: мы не собираемся заканчивать на деконструкции, она для нас только способ вскрыть опыт морального как он есть, без подмены основных понятий и без ссылки на внешнюю обусловленность.
Следует также отметить еще один случайный эффект, который имеет наша методология. Постольку, поскольку мы воздерживаемся от суждений об устройстве мира и человеческой природе, мы получаем возможность действовать в контексте онтологии различия: отсутствие всеобщих законов и случайность существования не является более проблемой для построения этики. Получается, что обоснование и реализация предлагаемой методологии может дать ответ на вопрос о том, «как возможна мораль в контексте онтологии различия». Этика без онтологии и этика в контексте онтологии различия оказываются тождественны.
Анализ, который мы предполагаем, можно назвать анализом морального опыта. Однако это не опыт в строго эмпирическом, естественнонаучном или социологическом смысле. Мы не собираемся вести дневник наблюдений, записывать, как именно люди осознают собственный опыт моральных поступков, или проводить голосование о том, что они считают моральным.
Нас интересует не опыт переживания морального, но скорее опыт мышления или его осознания. Мы, прежде всего, будем говорить о том, как возможно мыслить моральный поступок, открывая собственный смысл, который вкладывается в каждое из понятий, используемых для описания морального поступка.
Говорить об этом как об опыте мышления нам кажется вполне уместным и приемлемым. Это все-таки опыт в том смысле, что мы имеем дело с чем-то, что выходит за рамки наших представлений или ожиданий. Опыт в данном случае говорит о данности нам «реального», где «реальное» – это то, что отличается от нас. Оно присутствует не только в виде физического сопротивления, но и в виде сопротивления понятий нашему мышлению. Мы называем опытом все наши воспоминания, привычки, шрамы и другие способы зафиксировать историю событий, которые с нами происходили. Опыт отличается от представления тем, что ставит нас перед необходимостью что-то понять.
Такая широкая трактовка опыта имеет параллель в понятии реальности у спекулятивных реалистов. Харман и Мейясу говорят о реальности, как о внешней силе, вмешивающейся в нашу жизнь и наше познание. Мир и его очевидность дается нам через сопротивление: «Камень, мрамор, общество и математическое доказательство сопротивляются нашим усилиям и требуют тщательной инженерной работы, чтобы быть собранными эффективно и правильными способами» [Харман 2017: 23]. Греющее солнце или поражающая нас болезнь вторгаются в нашу жизнь помимо наших планов, они заставляют считаться с собой без нашего желания. Реальность – это то, что нам сопротивляется.
«Необходимость считаться с ними» здесь означает также и необходимость объяснить или понять это вмешательство. Сопротивление «реального» обнаруживается Харманом в попытке понять причинно-следственные связи: причинность становится проблемой в тот момент, когда мы описываем мир, как состоящий из актуальных объектов, независимых друг от друга и не нуждающихся друг в друге. Объекты должны как-то взаимодействовать, но объяснить это взаимодействие без предположения общей рамки, которой они были бы имманентны, не получается [Харман 2012]. Поэтому невозможно представлять причинность по-старому, как взаимодействие объектов. В хармановской онтологии объект всегда ускользает, находится за пределами любого прямого взаимодействия. И в то же самое время идея причинности предполагает взаимодействие: когда один объект меняет положение другого или способ его существования, мы называем это вступлением во взаимосвязь. При этом идея причинности глубоко укоренена в нашем мышлении: мы описываем и объясняем происходящее, находя причины явлений. Обнаружение полностью неясной и требующей усилий для понимания идеи причинности – это и есть «опыт» в широком смысле.
Описывая взаимодействие объектов в интенциональном отношении, Харман опять будет говорить о столкновении, как о чем-то «происходящем с» объектами, о чем-то, что происходит помимо их воли. Хотя связь между объектами – это тоже объект, «но связи возникают только между двумя реальными объектами, не в какой-либо другой комбинации. … Сама интенция происходит только от необъяснимого замещающего слияния меня с реальной сосной или с чем-то еще, что возбуждает во мне иллюзию восприятия» [Харман 2012]. И вновь тут мы находим сопротивляющуюся реальность, которая вплетена в ткань интенциональности. Уклонение объекта от отношения с ним, от связи с ним – это также способ сопротивления реальности. Реальность – это сфера объектов, превосходящих наше представление о них и никогда не вмещающихся полностью в отношение с ними. Она принципиально неподвластна нам, и в тоже время перманентно вступает с нами в отношение.Мы имеем дело с опытом не «реальных» физических объектов, которые нам сопротивляются, как мрамор резцу. Это сопротивление нашему познанию.
Сопротивление реальности, которое мы находим у спекулятивных реалистов, непосредственно соотносится с нашим представлением об опыте. Опыт мы рассматриваем как результат столкновения с реальностью. Столкновения, в котором мы вынуждены осознать или констатировать нечто, что не является нашей выдумкой, что мы не может трактовать и объяснять «как угодно».
Например, объяснение совершенного нами или по отношению к нам дружеского поступка, является опытом, если в нем есть нечто, что мы не можем изменить только лишь сменой интеллектуальной установки или точки зрения. Это «упрямство», содержащееся в фактах, упрямство, не дающее нам произвольно и как угодно их трактовать, мы и будем считать причиной для определения их как опыта.
Понятие морального поступка
Говоря об общей форме, в которой нам дается опыт морального, мы сразу можем заметить еще один принципиальный момент. Моральное дано нам не в качестве явления или переживания, наблюдаемых теоретически, а в качестве осознанного практического действия. Опыт морального или данность нам морального – это данность поступка. Этика и мораль имеют отношение к поступку, к действию, к практическому опыту. Мы называем моральным (или внеморальным) осознанное действие, а вовсе не просто состояние. Этика как «наука о том, как стать добродетельным» в аристотелевском смысле [Аристотель 1983: 79] изначально направлена на решение практических вопросов. Этика нужна нам не для того, чтобы постфактум оценивать наши прошлые поступки, она нужна нам для принятия решения о том, как нам следует поступить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

