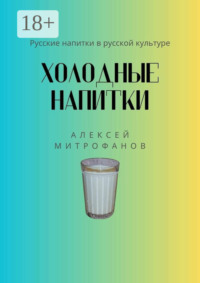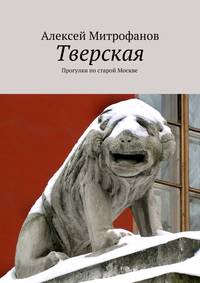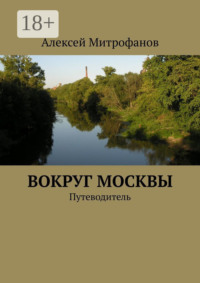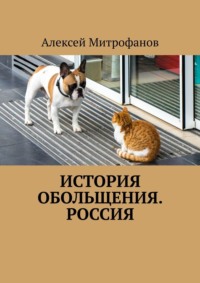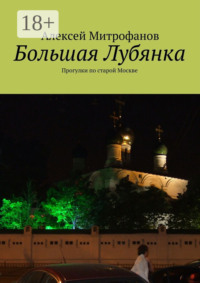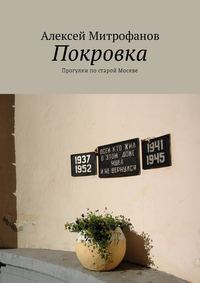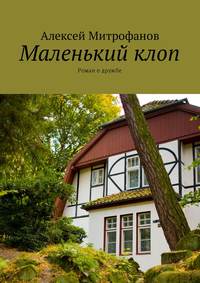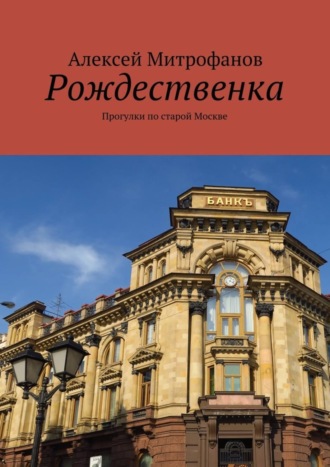
Полная версия
Рождественка. Прогулки по старой Москве
– Понятно. Спасибо. Теперь я могу поступать в рыбный институт.
Костя кивнул повару, и тот унес рыбу».
* * *
В 1958 году гостиницу переименовали снова. Никому не ясное, зато неуловимо буржуазное слово «Савой» опять сменилось на «Берлин» – название столицы братской социалистической державы. Обстриженный медведь, который так понравился туристу Стейнбеку, вошел в новое качество: он стал уже не символом русской природы и души, а знаком города Берлина, изображенном на его гербе.
Изменился и характер этого отеля. Советский Союз стал чуть-чуть пооткрытее, прошла эпоха впечатлительных американцев, изумляющихся всякой мелочи, наш город стал уже не странным чудом-юдом, а столицей государства – лидера так называемого социалистического лагеря.
Прошел шпанистый антураж гостиничного ресторана. Словом, «Савой», то есть «Берлин», стал добропорядочной гостиницей, относящейся к разряду «высший Б», с 22 местами первой категории, 39 местами третьей категории и 22 «люксами».
«Бюро обслуживания предоставляет следующие виды услуг: химчистку и глажение одежды, ремонт одежды, ремонт обуви, продажу билетов в театры и на концерты.
На 1-м этаже работают киоск по продаже сувениров, почтовое отделение. Для иностранных гостей – прокат легковых автомобилей с услугами водителя, услуги гида-переводчика, организация дегустации блюд в ресторанах столицы, организация турпоездок в различные города Советского Союза».
Разумеется, без соответствующей «организации» иностранцы не могли проехаться по «различным городам Советского Союза», так что эта услуга, мягко говоря, навязывалась. Зато в ресторане играл на скрипке будущая знаменитость – композитор Виктор Чайка.
Иллюзионист же Игорь Кио описывал забавную историю, случившуюся с ним в этом отеле благодаря его довольно экзотической фамилии: «Рядом с Союзгосцирком на Пушечной улице находился ресторан «Берлин». То есть, он и сейчас там, но называется «Савой». Мы много времени проводили в Союзгосцирке и часто заходили в «Берлин» выпить, перекусить. Нас все знали в лицо, и проблем попасть в ресторан не бывало, хотя в те годы на дверях гостиниц и ресторанов «Интурист», даже пустовавших, вывешивали табличку «Мест нет» и людей «с улицы» не пускали.
Однажды, как-то зимой, перебегаем мы из Союзгосцирка в «Берлин» – стучу, прошу открыть двери, но незнакомый швейцар качает головой в фуражке, мол, не пущу. Я его поманил рукой, показываю: «Приоткрой на цепочке». Приоткрыл. Я: «Передай, пожалуйста, метрдотелю, что пришел Кио». Он изобразил лицом, что понял, исчез в глубине, а дверь опять захлопнул. Через две минуты возвратился и сам уже подзывает меня пальцем – и в приоткрытую дверь объявляет: «Пива нет!»».
Тот же иллюзионист рассказывал еще одну занятную историю, случившуюся в том же ресторане: «Помню, я приехал из гастролей по Скандинавии, и мы в ресторане гостиницы „Берлин“ отмечали это событие. А Фрадкис (Леонид Фрадкис, администратор цирка на Цветном бульваре. – АМ.), когда выпивал, становился очень шумным. Не скандальным, а просто шумным – очень громко разговаривал… К нему подошел человек и сказал: „Я бы попросил вас говорить чуть потише…“ – „А кто вы такой, – спросил Фрадкис, – чтобы учить меня, как мне разговаривать?“ Тот протянул ему красную корочку, где было написано „оперуполномоченный Комитета государственной безопасности“. Фрадкис долго смотрел на корочку, долго смотрел на ее владельца, а потом спросил: „А права человека?..“»
Нужно жить в ту эпоху, чтобы по достоинству оценить эти две истории.
* * *
Но наступила перестройка. Ресторан отреставрировали (силами югославской фирмы), сделали совместным (советско-финляндским) предприятием и вернули исконное историческое название – «Савой» (то, что «исконным» было все-таки «Берлин», пожалуй, никому и в голову не приходило). Медведя за ненадобностью (как уже неактуальный герб Берлина) передали в «Метрополь». И началась новая жизнь. Роскошная до невозможности.
Правда, поначалу тут устраивались всевозможные «фуршеты» и «коктейли», на которые иной раз попадали не слишком рафинированные господа в китайских майках и отечественных свитерах. Больше того, в «Савойе» устраивали угощение для детей-сирот. «Столы были сервированы по высшему классу: салаты, лососевое масло, котлеты из индейки, экзотические пирожные, кофе, мороженое… Вышколенные официанты по привычке были готовы выполнить любые капризы гостей, но таковых не последовало», – сообщала пресса.
Но со временем подобные мероприятия из моды вышли. А на приглашениях в «савойский» ресторан теперь указывается форма одежды. Смокинг или фрак.
Горячий привет мертвеца
Доходный дом (Пушечная улица, 4) построен в 1902 году по проекту архитектора А. Остроградского.
Гостиница «Савой» выходит на две улицы – Рождественку и Пушечную, названную так по старому литейному двору, располагавшемуся здесь в средневековье. Не удивительно, что самой стратегически значительной продукцией, которая тут выпускалась, было не что-нибудь, а именно пушки.
Со временем о том воинственном дворе полностью позабыли. Переулок стал ассоциироваться больше с развлечениями, более-менее культурного порядка. Театральное училище на углу с улицей Неглинной, та же гостиница «Савой». И Дом учителя. И там же – Госцирк.
Появление учительского клуба в городе Москве симптоматично. Одной из основных задач советской власти было уничтожить безграмотность. Соответственно, профессия учителя сразу же сделалась одной из элитарных, пусть подчас только на словах. Решать же эту самую задачу довелось наркому просвещения Луначарскому. Он принялся за дело с невиданным энтузиазмом.
В одном из писем родственникам сообщал: «Но главная работа – культурно-просветительная городская. Сегодня целый день объезжал городские училища. Осмотрел одну начальную школу, одно мужское и одно женское 4-классное училище и одну городскую женскую гимназию, пока открывшую только два класса.
Конечно, как водится, мне показывали казовый конец (выполненный напоказ. – АМ.). Надо еще поездить и самому, без Бельгарда, но пока впечатление чрезвычайно хорошее. 4-классные училища, лучшие, по крайней мере, поставлены образцово, учителя и учительницы полны рвения и дружно работают.
Надо поскорее созвать собрание и успокоить педагогическое стадо, которое в ужасе от мысли, что во главе их ведомства стоит большевик!»
Он вообще уделял очень много внимания тому, чтобы понравиться интеллигенции: «Сильно работаю по приручению интеллигенции. В студенчестве начинается прилив к нам понемногу… Мой 2-й публичный отчет сопровождался большими овациями. Пока дело понемногу улучшается. Массу грубых ошибок совершают все же наши большевистские военные бурбоны, ошибок, от которых морщишься, как от физической боли. Но что же поделаешь? Ведь и та сторона, умеренные социалисты бешено борются с нами. Твердая власть, увы! необходима, это приходится проглотить».
Луначарский и вправду радел за образование, организовывал по всей стране школы и рабфаки по ликвидации неграмотности, заботился о быте педагогов из глубинки. С отчаянием зачитывал по телефону Ленину тревожные учительские телеграммы: «Шкрабы голодают». Правда, тот долго не мог понять, кто именно такие эти шкрабы – вероятно, крабы в каком-нибудь аквариуме. Приходилось объяснять, что шкрабы – это «школьные работники», новая аббревиатура.
Даже Ленин осадил тогда Анатолия Васильевича – дескать, разве можно называть таким поганым словом педагогов?
Результат не замедлил сказаться. Только в 1920 году в стране научились читать и писать около трех миллионов человек, а всего за первые три года новой власти – около семи. Правда, Закона Божьего в новой школьной программе не было. Больше того, обучение проходило на жесткой атеистической платформе.
А юрист Анатолий Кони, человек, которого было бы трудно заподозрить в особенных пристрастиях к большевикам, писал про Луначарского: «Это лучший из министров просвещения, каких я когда-либо видел».
В таких условиях появление особого учительского дома – необходимость и, можно сказать, неизбежность.
* * *
Именно на сцене этого учительского клуба Владимир Высоцкий сыграл свою первую театральную роль. Это состоялось в 1959 году. Сыграл же Владимир Семенович роль Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского. То был учебный спектакль. Высоцкому поставили «пять».
А Госцирк описывал Юрий Никулин: «В коридорах людно. Толпятся артисты, режиссеры, авторы – кто проездом, кто по вызову. Гудят голоса, почти все курят, и дым стоит коромыслом.
Я отдал одному из инспекторов заявление с просьбой разрешить нам с партнером сделать заказ на новые рубашки и шляпы для работы и долго потом по всем комнатам искал женщину – страхового агента, чтобы внести очередной взнос за себя и Таню. Долго я считал, что страховать свою жизнь не нужно. Зачем? Мы, клоуны, менее рискуем, чем акробаты, гимнасты, жонглеры, дрессировщики. Но когда на моих глазах упавшим из-под купола осветительным прибором убило на манеже клоуна, я решил пользоваться услугами Госстраха.
К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом – сокурсник по клоунской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает:
– В цирке умер одногорбый верблюд. Директор говорит завхозу:
«Пошлите в центр заявку на двугорбого верблюда».
«А почему на двугорбого? Ведь у нас умер одногорбый?» – спрашивает завхоз.
«Все равно срежут наполовину»».
Ну чем не профессиональный клуб?
Уже упоминавшийся фокусник Игорь Кио рассказывал об управляющем «главка», личности незаурядной: «Феодосий Георгиевич Бардиан управлял Союзгосцирком около двадцати лет – с начала пятидесятых годов. В прошлом он полковник, политработник. Как коммуниста его „бросили“ на цирк. Говорят, что кандидатуру управляющего утверждал сам Сталин. Бардиан, безусловно, был умным человеком и для развития цирка сделал много. Он создал, я бы сказал, цирковую империю. Построил в Советском Союзе порядка семидесяти пяти зданий цирка. В каждом городе, где есть цирк, он построил и гостиницы для артистов. В те годы это было особенно важно, поскольку многие артисты, напоминаю, не имели ни прописки, ни своего жилья. При Бардиане начали создаваться дома отдыха и пансионаты для „цирковых“. Он пробил специальные пенсии, по аналогии с балетными. Артисты физкультурно-акробатических жанров, артисты-дрессировщики получили право на льготную пенсию при двадцатилетнем стаже. Это великое дело. Правда, человек, ступивший на манеж, уже крайне редко меняет профессию, скорее переходит из жанра в жанр, но редко уходит на пенсию. А может быть, и лучше уйти – не „пересиживать“ свой актерский срок».
Бардиан, что греха таить, был не без странностей: «Когда приподняли „железный занавес“ и мой отец получил возможность гастролировать за рубежом, он после поездки в Японию зашел как-то к Бардиану и сказал: „Феодосий Георгиевич, вы знаете, что я человек приличный, что мне от вас, в общем, ничего не надо, что все у меня уже есть, но мне просто было бы очень приятно, если бы вы приняли от меня этот подарок, поймите меня правильно“. И подарил ему хорошие японские часы в красивой коробке. И сразу вышел из кабинета. Прошло полгода, отец ездил работать в Ленинград, а когда вернулся в Москву, снова пришел к Бардиану – решить какие-то текущие вопросы. Бардиан всегда хорошо относился к нему – и все быстро решил, но когда отец уже попрощался, задержал его: „Одну минутку, Эмиль Теодорович“. Подошел к сейфу, открыл дверцу и спросил: „Вы ко мне относитесь с уважением?“ – „Да, конечно“. – „И я к вам отношусь с уважением. Вы не хотите, чтобы между нами пробежала черная кошка?..“ Короче, он вынул из сейфа этот футляр с часами и заставил моего отца забрать подарок обратно».
Конечно, Бардиан был начальником старой формации, который все решал приказами, но человеком он оставался, повторяю, умным и неплохим. При нем больших глупостей почти не делалось. Другой разговор, что, спустя восемнадцать или там сколько-то лет, он погорел на слабости, которая была ему совершенно несвойственна. Бардиан считался настолько авторитарным и серьезным начальником, что едва ли не все смотрели ему в рот, – и уж по линии личных удовольствий он, будь половчее и смелее, мог бы добиться всего, чего только пожелал бы. Он, однако, всегда игнорировал женщин. Но вот под финал карьеры неожиданно влюбился в одну даму, работавшую в управлении, отнюдь не блиставшую красотой и юностью… Человек он был сильный – на грани какой-то сталинской ненормальности. Помню, у него случилось горе – погибла дочь (попала под поезд), и все, когда узнали, очень переживали за него. Но когда наутро после трагедии к нему зашли принести искренние соболезнования ведущие артисты, начальники отделов, он коротко поблагодарил и тут же сказал: «Но работа есть работа. Прошу всех на свои рабочие места».
Такой был человек – вот и не скажешь, что главный циркач государства.
Впрочем, не менее своеобразным был последователь Бардиана. Кио рассказывал о нем в таких словах: «Пришедший на смену Бардиану Михаил Петрович Цуканов работал секретарем парткома Министерства культуры СССР. По-моему, до назначения его в Союзгосцирк он в цирке никогда не бывал. И в делах наших ничего не понимал, не разбирался. Но, человек важный и значительный, придя в цирк, он без сомнений взялся за дело. И уже через неделю выглядел «крупным специалистом» в цирковом деле. Я не зря говорю об этом с иронией.
Примерно через неделю после назначения Цуканова мы собрались на гастроли в Турцию и пришли к управляющему за напутствием, хотя нового начальника практически не знали. В кабинете собралось человек шестьдесят-семьдесят – наш коллектив. Цуканов бодро поздоровался и вдруг спрашивает: «Инспектор манежа присутствует?» Ну а как же! Инспектор манежа встает. Начальник обращается к нему: «Ну как, все в порядке?» Тот отвечает: «Все в порядке», не совсем понимая, почему именно ему адресован вопрос. Следующий вопрос ему же: «Ну что, тросы и чикеля взяли?» Тросы – это специальный трос для подвески воздушных номеров, а чикеля – специальные приспособления для подвески (я сорок лет в цирке и все равно точно не могу объяснить, что такое чикеля). Цуканов этим своим вопросом как бы подчеркнул, что уже глубоко влез в цирковые дела и знает все проблемы, включая мелочи… Так сказать, был той закваски, что он все понимает лучше всех. Разговаривать с Михаилом Петровичем было очень трудно. Типичный советский номенклатурщик. И никто не удивился, когда через пару лет его из цирка перевели не куда-нибудь, а в кремлевские музеи – директором, на что Анатолий Андреевич Колеватов, его сменивший, остроумно пошутил: «Ух, у Мишки работа – просто позавидуешь. Какие заботы? Только смотри, чтобы Царь-Пушку не сперли»».
К счастью, Колеватов оказался мил и адекватен. Но в конце своей карьеры погорел на взятках. Словом, как писал Хармс, «хорошие люди не умеют поставить себя на твердую ногу».
* * *
Кстати, до революции и в этом доме, построенном А. Остроградским, размещалась гостиница – знаменитая «Альпийская роза», в которой, в свою очередь, зародилась известная литературная организация. Гиляровский о том сообщал: «Литературно-художественный кружок основался совершенно случайно в немецком ресторане „Альпийская роза“ на Софийке. Вход в ресторан был строгий: лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах. В одном из них председательствовал певец А. И. Барцал, а в другом – литератор, историк театра В. А. Михайловский – оба бывшие посетители закрывшегося Артистического кружка. Как-то в память этого объединявшего артистический мир учреждения В. А. Михайловский предложил устраивать время от времени артистические ужины, а для начала в ближайшую субботу собраться в Большой Московской гостинице».
* * *
В «Альпийской розе» находились также номера для постояльцев. Номера пользовались популярностью в среде российских декадентов. Один из современников, искусствовед Л. Сабанеев вспоминал: «Я и Поляков должны были пойти на какой-то концерт. Зашли по дороге в гостиницу «Альпийская роза», где жил художник Российский, чтобы взять его с собой. У Российского сидел Бальмонт, и у него уже было настроение вздернутое – до нас тут пили коньяк. Так как Бальмонт не хотел (да и не мог) пойти на концерт, решили, что пойдем втроем, а он посидит тут, нас подождет. Для безопасности, видя его состояние, сказали служащему, чтобы ему ни в коем случае не давать ни вина, ни коньяку, сказать, что «нет больше».
Мы ушли. В наше же отсутствие произошло следующее. Оставшись один, Бальмонт немедленно спросил еще коньяку. Ему, как было условлено, ответили, что коньяку нет. Он спросил виски – тот же ответ. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколона и всю ее выпил. После того на него нашел род экстаза. Он потребовал себе книгу для подписей «знатных посетителей». Так как подобной книги в отеле не было, то ему принесли обыкновенную отельную книгу жильцов с рубриками: фамилия, год рождения, род занятий и т. д. Бальмонт торжественно, с росчерком расписался, а в «роде занятий» написал: «Только любовь!» Что было дальше, точно выяснить не удалось, но когда мы вернулись с концерта, то в вестибюле застали потрясающую картину: толпа официантов удерживала Бальмонта, который с видом Роланда наносил сокрушительные удары по… статуям негров, украшающим лестницу.
Двое негров, как трупы, с разбитыми головами валялись уже у ног его, сраженные.
Наше появление отрезвило воинственного поэта. Он сразу стих и скис и дал себя уложить спать совершенно покорно. Поляков выразил желание заплатить убытки за поверженных негров, но тут выяснилось, что хозяин отеля был поклонником поэзии и, в частности, Бальмонта, что он «считает за честь» посещение его отеля такими знаменитыми людьми и просит считать, что ничего не было. Но сам поэт об этом своем триумфе не узнал – он спал мертвым сном».
Такая вот любовь.
* * *
Именно здесь, за столиком «Альпийской розы» у писателей возникла некая идея – всего-навсего сфотографироваться вместе. Но фотография вышла гораздо значительнее, нежели предполагалось вначале. Иван Бунин писал: «Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:
– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.
Скиталец обиделся.
– Почему же это свадьба, да еще собачья? – ответил он своим грубо-наигранным басом. – Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.
– А как же это назвать иначе? – сказал я. – Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну».
Вот еще одна из старых добрых традиций, которую мы потеряли, – ездить сниматься в художественный фотосалон. Происходи все это в двадцать первом веке – так достал бы Бунин из кармана телефон, подозвал бы официанта, попросил бы его на кнопочку нажать – и в тот же день исторический снимок висел бы в сети. Не надо было бы ни типографий, ни сетей распространения полиграфической продукции – кликов было бы больше, чем проданных экземпляров открытки. Правда, и дохода эта операция не принесла бы никому.
* * *
И, разумеется, в «Альпийской розе» устраивали славные новогодние ужины: «Громадная, залитая электричеством елка. Все столы красиво убраны живыми цветами. Гремят два оркестра музыки: 1-го Сумского гусарского полка под управлением г. Маркварта и салонный г. Пакай».
А еще здесь было замечательное пиво, завозимое прямым путем из Мюнхена.
Прелестно.
* * *
Кстати говоря, именно здесь служил один из самых колоритных булгаковских героев – Варфоломей Петрович Коротков из повести «Дьяволиада». То есть, не в ресторане, разумеется, а в той организации, которая, по воле сочинителя, въехала в стены ресторана после революции – Главной Центральной Базе Спичечных Материалов. Именно там и приключилось историческое увольнение Короткова: «Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище, совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.
– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.
Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.
«1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».
Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:
«Заведующий кальсонер»
Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков».
Шустерклуб
Жилой дом (Пушечная улица, 9) построен в 1850-е годы.
Самым колоритным из московских клубов был, конечно же, немецкий. Не потому, что немцы отличались этакой избыточной оригинальностью. И не потому, что пиво было хорошо, хотя оно и вправду было хорошо. И даже не из-за колбас – подумаешь, колбасы, нашли, чем удивить. Дело было даже не в немецких женщинах, хотя – да, женщины.
Просто у дворянской молодежи, а в первую очередь, естественно, военной, был странный обычай – приходить сюда и дурить немцев. Говорить, якобы всерьез, комплименты им самим, их пиву, их колбасам, женщинам и пр. Приглашать тех женщин танцевать. А после обращать все это в анекдот. Случалось весело.
Мемуарист А. Д. Галахов так описывал конечный результат подобных шоу: «Я не любил шустер-клуба по причине скандалов, там случавшихся. Каждый раз выводят под руки одного, двух визитеров за учиненные ими дебош или проказу. Вывод совершался просто или торжественно, то есть без музыки или с музыкой (трубным звуком), смотря по важности вины и по желанию виноватого. Справедливость требует сказать, что провинялись по преимуществу русские посетители, которые иногда намеренно выбирали местом своих подвигов Немецкое собрание, зная, что в нем сойдет им с рук то, что никак не сошло бы в Благородном».
Помимо прочих бузотеров в этот клуб ходили спускать пар купцы, настроенные против немцев.
Впрочем, по порядку.
История Немецкого клуба глубока и укутана покровами тайн. Существовал он еще с допетровских времен – в том или ином виде, в том или ином месте. Здесь же клуб обосновался в 1860 году. И только в 1870 году сюда открыли вход для всех граждан всех национальностей (что, собственно, и спровоцировало эти самые курьезы).
Существовал дресс-код. Некий герой забытого теперь писателя Ивана Барышева (псевдоним – Мясницкий), а именно, конторщик Настилкин специально для участия в немецких танцах строил себе специальный костюм: «сшил себе смокинг с шелковыми лацканами, и хоть портной испортил ему этот смокинг, очень окоротив, но все же это смокинг, а не какой-нибудь пиджак, в котором являются некоторые кавалеры Немецкого клуба, нахально выдавая пиджак за смокинг и доказывая это целыми часами дежурному старшине, который не дозволяет принимать участие в танцах одетому «не по правилам».