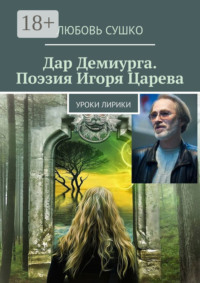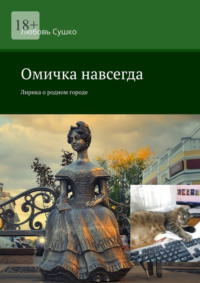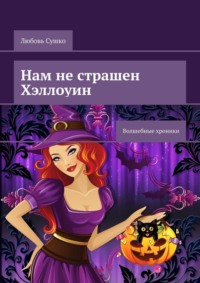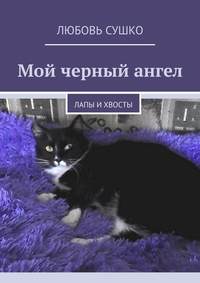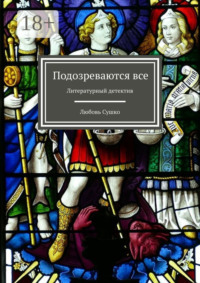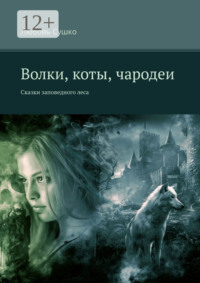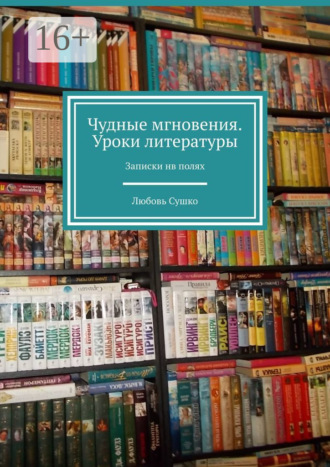
Полная версия
Чудные мгновения. Уроки литературы. Записки нв полях
Его героя зовут Добрыня, и это характерно, потому что по Карамзину именно он «огнем и мечом» крестил Новгород, когда Владимир в Киеве орудовал, и показывает плачущую деву-красу, повторяющую вариант плача Ярославны:
Он описывает приключения своего героя – это настоящий русский эпос, это то, что Пушкин позднее выносит во вступление, только у Жуковского это не прошлое время, а настоящее:
Но дописал он только до этого места, а потом написал поэму «Двенадцать спящих дев», и на этом остановился. Вероятно, испугался, всего, что получиться в итоге могло. Его авторитет был незыблем, а тут почти бунт намечался..
Но планом вдохновился Пушкин и его осуществил в своей поэме, как отмечает Томашевский.
В разных литературных кружках слышали, как Пушкин прочитал вступление к поэме, и стали ждать продолжения, и возмутились тому, что « русская старина обещана, но не представлена».
Но современники вспоминали, что у него были русские главы, которые он читал сначала, но потом от них отказался и заменил на скандинавские. Почему он так поступил, этого никто не знает, а рукописи бесследно пропали. Все его черти и лешие, и водяные, исчезли и растворились в чужом и враждебном мире. Литераторы и критики упрекали его за то, что милый сердцу Добрыня у него стал сказочным полузабытым Русланом. Но Пушкин еще надеялся, что Руслан станет русским Гераклом, а Добрыня поэту из-за крещения той Руси не был симпатичен.
Критики отмечали, что эпизод Финна и Наины – искуснейший отрывок, но требовали волхва, а не чужого чародея. Да и Наину считали слишком отвратительной старухой, такой не могло быть в русском эпосе.
Под прессингом он что-то переписывал и менял, а они все еще ждали эпоса, равного «Энеиде», и даже Карамзин страшно критиковал юного поэта, не оправдавшего ожидания. И только Жуковский, в противовес им всем, преподнес свой портрет с надписью, признавая его победу. Лишь немногие славянисты, так и не дождавшись творения Жуковского, приняли поэму, как нечто новое, неожиданное и очень важное не только для литературы, но и для славянского мира вообще.
Но что ж самое главное высвечивается в этом творении Пушкина, если присмотреться внимательнее?
Слушая все бесконечные споры о том, что и как могло быть тогда, у него возникла идея о похищенной черным колдуном (монахом) и прогруженной в сон деве. Ее имя говорящее – Милая людям, она должна проснуться и вернуться в мир древнего Киева, освобожденная и спасенная древним русским героем, в имени которого тоже есть корень – Рус – это имя древнего князя, жившего когда-то и оставившего этой земле свое имя.
Понимал ли Пушкин до конца, что он творит или это только мальчишеский задор, трудно сказать. Но получилась такая странная на первый взгляд вещь, анти православная поэма, она была как раз о языческой Руси. И такой она и должна была остаться. Тем более что Пушкин за пределами столиц ясно видел, что нет там никакого православия « Там русский дух, там Русью пахнет». Он оставался и останется навсегда за пределами больших городов и столиц, а пределы эти оказались бескрайними.
И не случайно поэму Жуковского «12 спящих девах», пронизанную православными мотивами почти никто не читал и не знает, а ведь он был знаменит и любим, как никто в то время, и с Пушкиным его еще и не сравнивают даже. И сам Жуковский недаром, как человек умный и тонкий, напишет на собственном портрете « Победителю ученику, от побежденного учителя», это не просто комплемент и желание защитить. Наверняка он понял, куда прорвался Пушкин.
А что же со славянской идеей случилось потом. Через десяток лет вернутся к ней оба поэта.
И только в 1831 году Мастер пишет сказку но это просто чудная сказка с европейским сюжетом, хорошо всем известным, там уже Русью никакой и не пахнет и через два года, думаю не случайно, почти тот же сюжет берет Пушкин для « варианты – спящая и мертвая – так преобразился мир за это время. Людмила тоже была спящая, а эту героиню убили злые силы. И критики в том числе, которые ту поэму не приняли. И ведь она оказалась, когда пряталась с чернавкой в том самом заповедном лесу, где когда-то язычники хранили кумиры древних богов. Она поселилась у семи богатырей, но они не смогли уберечь прекрасную деву. И сначала Чернавка (образ черного монаха) ее отпустила, а потом вернулась и убила. И более того, она принесла с собой отравленное яблочко. А если вспомнить о молодильных яблоках, которые нашим богам давали молодость, и хранились в Ирии, то это символично. Здесь яблока оказывается отравленным, и вместо вечной молодости несет с собой смерть. И как короля Артура или древнего бога Велеса, богатыри кладут ее в хрустальный гроб, в скале и оставляют, где «спит царевна вечным сном». Это уже совсем не похоже на милую сказку Жуковского, перед нами разворачивается последнее действие трагедии. « Спящая царевна», Сказки о мертвой царевны» —
Королевич Елисей должен пройти путь Руслана. Эта сказка – маленький слепок старой поэмы, все, что от нее осталось. И он остается тем древним героем, спасителем прекрасной девы.
И идея человеческого коварства, завести, злобы господствует в новой крещенной Руси. И последний герой – королевич Елисей, обращается в финале, как и Ярославна в «Слове о полку Игореве» к солнцу, ветру и луне. На лишенную русских мотивов сказку Жуковского, он отвечает мифом универсальным, но переходящим в славянский, к «Слову» возвращается. Это последняя попытка обратить свой взор к нашим мифам, к тому, что мы потеряли навсегда.
И только А.С.Пушкин упорно старается разбудить спящую царевну, вернуть ее в этот мир. Он напоминает о том, что только разбив хрустальный гроб, можно разбудить мертвую царевну. Это сделать труднее, если Людмила при помощи колдовства в сон погружена, то царевна отравлена и мертва, и нужно значительно больше усилий, чтобы ее разбудить, и опять же имя королевича созвучно названиям рек, как у древних богатырей, Вольга, Дунай, Елисей (Енисей). Он упорно отказывается от Владимировых богатырей, которые запятнали себя крещением.
И невольно задумываешься, почему это случилось, почему снова ушли мы от своих предков, от своих истоков к чужим мифам и сказаниям. Они прекрасны и величественны, они были разработаны тогда, и теперь они живут и здравствуют. И их было проще использовать, но только ли в этом главная причина того, что никак не можем мы вернуть наши собственные мифы, а осколки их, как осколки разбитого зеркала разлетаются в разные стороны и никак нельзя их собрать.
Останется только какие-то свои версии выдвигать, а дело это неблагодарное, и все-таки, думаю, что, проникнувшись атмосферой иного мира и бытия, а времени поэт в усадьбе своей проводил немало, он начала понимать на сколько это страшно и опасно для православного человека- углубиться в славянскую мифологию. Потому что если погрузиться в тот омут удивительный, где « русский дух и Русью пахнет», а с близкого расстояния он, наверняка, совсем иным кажется, попробуйте побродить по дремучим лесам, и ничего не останется от чужой и всегда чуждой веры. Но зато мы начнем, наконец, возвращаться к истокам. Всколыхнется прапамять наша, и вера предков, которая тысячелетия была с ними, помогала им не только выжить, но и жить достойно, она сметет те случайные черты христианства, которые пытался втиснуть в наши души самый страшный из всех наших князей, самый кровавый из них князь Владимир Святославич. У нас отняли природу, как основу бытия и мира, у нас отняли богов солнечных, Род и родственников, и Ладу с ее любовью. И началось все с умерщвления плоти, постов в те дни, когда оживает мир и природа, начинает радоваться жизни, и чувствовать человек начинает особенно ярко, тогда мы и сталкиваемся со всеми дикими запретами и перестаем чувствовать и жить, влача убогое рабское существование.
Я уверена, что А.С.Пушкин знал и слышал бесчисленные рассказы о Леших, Домовых, Водяных, Русалках и Берегинях. Почему же тогда не попали они в сказки его?
Да потому что для славянина никогда не были они сказочными персонажами, а оставались реальными созданиями, теми, кто жил рядом, помогал, если к ним с добрым словом обращались, и вредил, видя, что люди не так, как следует, поступают. Их не нужно было особенно бояться, с ними надо было просто ладить.
И не случайно ли они, эти создания мстили творцам нашим за то, что их пытались не замечать.
Они врывались в творения без всякого спроса. Загляните в стихотворение 1830 года, только на первый взгляд кажется, что это традиционный Библейский сюжет о тех противниках бога и падших ангелах, которые были сброшены на землю, а не появились здесь в миг творения, когда Сварог и Лада кидали камни черные и белые, и появлялись первые люди. А когда наш бог бил своим молотом по наковальне, отлетали искры в разные стороны, многие из них падали и на сотворенную им землю, так первые бесы и возникли. Таких ярких и зажигательных созданий больше и не было прежде. И что же читаем мы не в сказках, а в достаточно реалистическом стихотворении А.С.Пушкина?
Они вписаны четко и в природную стихию вьюги, и в ряд всех русских духов. Они не чужие, а органичные, те, которые были всегда с самого творения мира здесь, потому в самом начале поэт признается, что «Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин» А о том, что вызывает такой реальный страх невозможно написать сказку. Они совсем близко:
Вот что происходит с человеком, вырванным из лона природы и отказавшимся тысячу лет назад от своих богов. О таком так просто не напишешь, а в заповедных лесах на неведомых дорожках остаются следы невиданных зверей. И если поверить нашим физикам, что ничто не исчезает и не появляется внезапно, то понятно становится, что и они никуда не исчезли. Не об этом ли размышлял, бродя по топям и болотам, другой гений А. Блок, когда видел там в лягушках зачарованных царевен, и знал, прапамять не подвела его, что боги наши спят на дне тех самых болот, где были они утоплены когда-то и спрятаны вместе с их кумирами, но они снова проснуться в назначенный срок, когда блудные дети вернутся к ним. И, скинув звериную шкуру, лягушка превратится в царевну. А М. Врубель, старший его современник в облике Пана изобразил нашего бога всего живого Велеса. И, наконец, последний всплеск молнии – В.С.Высоцкий в своем славянском цикле пошел дальше предшественников – он изобразил наших духов, порой любуясь ими, иногда наделяя их какими-то смешными чертами, но все они живые у него и очень реальные.
И тот, кто принесся на тройке через дремучий и заповедный лес, и задохнулся от невероятного бега коней, он просто не мог успеть и дожить и допеть. Но очень медленно мы все-таки собираем осколки того разбитого зеркала, и приближаемся к славянскому эпосу, понимая, что у нас нет иного пути, только через дремучий и заповедный лес, который пугает, и кажется безжизненным. Но это только до того момент, пока мы сами себя от него отлучили, забыли, оставались рабами чужих богов. Страшно ли нам сегодня возвращаться туда, к истокам, где русский дух и Русью пахнет? Страшно, но у нас нет другого пути. Никто за нас его не пройдет. Остается только, взяв за основу гениальное вступление к поэме «Руслан и Людмила», вспомнить о заговорах и заклинаниях, о которых говорил Александр Блок, почувствовать атмосферу, которую создал Высоцкий, подчеркивая « Страшно, аж жуть» и двинуться еще дальше в тот таинственный мир. Этот путь только кажется очень далеким, а на самом деле, мы знаем, что дорогу осилит идущий, и когда чего-то очень хочется, то весь мир в том помогает.
Славянские мифы, зашифрованные в сказках, былинах, песнях, отраженные в летописях все эти годы боролись за свое существование, исчезали и появлялись снова. Остается только собрать эти осколки и сложить из них тот рисунок, который видели все те, кто были до нас и позволили нам появиться в этом мире, но если даже этот рисунок и будет отличаться от того, первоначального, это все-таки лучше, чем ничего, чем пустота, которая нынче царит в наших душах. И сколько не старалось православие, но ничем она не заполняется.
Состязайся ж с исполинами,С увенчанными поэтами.Соверши двенадцать подвигов:Напиши четыре части дня,Напиши четыре времени,Напиши поэму славнуюВ русском вкусе повесть древнююБудь наш Виланд, Ариост, Баян!Мы имели славных витязей,Святослава со ДобрынеюА Владимир – русско солнышко,Наш Готфрид или великий КарлВыбирай, соображай, твори,Много славы, много трудностей.Слава ценится опасностьюОдоленными препятствиями.Я вижу древни чудеса:Вот наше солнышко-красаВладимир князь с богатырями:Вот Днепр кипит между скалами:Вот златоверхий Киев-град,И басурманов тьмы, как пруги,Вокруг зубчатых стен кипят,Сверкают шлемы и кольчуги.Краса-девица воет-плачет,А друг по долам, холмам скачет,Летя за тридевять земель:Ему сыра земля постель:Возглавье щит, ночлег дубрава,Там бьется с Бабою ЯгойТам из ручья с живой водойПод стражей змея шестиглава,Кувшинам черпает злотым.И вот внезапно занесенВ жилище чародеев он:Пред ним чернеет лес ужасный,Сияет блеск вдали прекрасный.Чем ближе он, тем дале светТо тяжкий филина полет,То вранов раздается рокот.То слышится русалки хохот,То вдруг из-за седого пняВыходит леший козлоногий.И вдруг стоят пред ним чертоги,Как будто слиты из огня-Дворец волшебной царь-девицы:Красою белые колпицы,Двенадцать дев к нему идутИ песнь приветную поют.Бесконечный, безобразны,В мутной месяца игре,Закружились бесы разны,Будто листья в ноябре.Сколько их? Куда их гонят?Что так жалобно поют?Домового ли хоронят?Ведьму ль замуж выдают?Мчатся бесы рой за роемВ беспредельной вышине.Визгом жалобным и воемНадрывая душу мне.Урок 13 Страшное пророчество «Змей Тугарин»
Погружаясь в мир древних сказаний и легенд, русские поэты уводили нас в ту дохристианскую и дотатарскую Русь, о которой наши историки имеют смутное представление. Но именно там рождалась тот дух, та тайна, которая потом навсегда была утеряна, и особенная атмосфера язычества, которую очень трудно представит себе современному человеку.
Поэт А. Толстой переносит нас в своей балладе в эпоху Владимира Красно Солнышко. Киевский князь еще пирует свободно со своими богатырями, и не задумался о принятии новой верой. Вот и мы можем побывать на таком пире, где
все решалось в те времена: вопросы мира и войны, свадьбы и тризны творились здесь.
Над светлым Днепром средь могучих бояр,
Близ стольного Киева-града
Пирует Владимир.
Мы знаем, из отрывочных исторических записей, что особенно при сыне князя Владимира Ярославе Муром на Руси был настоящий расцвет, она слыла могучим и очень богатым государством, и все иноземные короли стремились породниться с русским князем, и ничто в те годы, казалось, не могло предвещать никакой беды. Но появился странный Баян во время княжеского пира. Под его личиной скрывался Змей Тугарин, и завел он странную песню, над которой и могучий князь, и его гости долго хохотали, но песня оказалась пророческой.
По традиции сначала он напоминает собравшимся о славных победах и делах прошлого, и вдруг совсем иной становится его песня:
Но род твой не вечно судьбою храним,
Настанет тяжелое время.
Обнимут твой Киев и пламя и дым,
И внуки твои будут внукам моим
Держать золоченое стремя.
Никто не может поверить в подобное, ведь князя окружают славные богатыри, здесь и Илья Муромец, и Добрыня Никитич, и Алеша Попович, они воспринимают пророчество, как клевету и издевательство. Но мы знаем печальную нашу историю, и грустным кажется такой смех.
Илья напоминает ему о расправе над соловьем:
Да я пятерней приглушил его свист-
С тобой не случилось бы тоже.
А Змей говорит между тем о рабстве и победе над ханом, но и после этого в нашей истории будет мало утешительного:
И земли единый из вас соберет.
И сам же над ней станет ханом.
Никто из собравшихся не может поверить в подобные перемены, слишком фантастичными они кажется. Но Змей мудр, и они понимают, что он может говорить правду.
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете.
О том же примерно будет рассуждать А. Блок в цикле «На поле Куликовом», хотя и одержана победа, но все давно перемешалась, и невозможно понять, где святое знамя, а где ханской сабли сталь. И союз с татарами будет продолжаться, как и вечный бой между двумя мирами, которые со временем оказались ближе, чем сначала могло показаться.
А Змей между тем говорит Владимиру, что потомки его предадут своих предков варягов и повернутся к востоку. Для князя такая мысль и смешна и невыносимо, но не дано предугадать, как и что со временем повернется.
И тогда Добрыня узнает Змея, с одним из таких он уже расправился когда-то, но Змей бессмертен, он вернулся к ним из-за моря, и ему приходится на этот раз спасаться бегством:
И в змея певец перекинулся вдруг
И с криком бросается в воду.
Им кажется, что они еще могут исправить все и не допустить исполнения скверного пророчества, потому так торжественно звучат слова:
Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской Руси нам не надо.
Солгал он. Солгал.
И остается только надеяться на то, что будет все так, как им хочется, но со временем измельчают князья, в междоусобицах они потеряют вся, что было дорого, и останется только вспоминать былины о князьях и славных их богатырях. А Владимир на своем пиру поднимает кубок за лихих варягов, ведь в жилах их течет кровь именно этих людей:
И если настанет година невзгод,
Мы верим, что Русь их победно пройдет.
С грустью мы перечитываем эти строки о воле и силе богатырской, о славных днях нашей земли. И звучит русская речь с присказкой:
Ой, ладо, ой ладушки ладо.
Она по-прежнему жива в глубине наших душ, и мы не сможем с ней расстаться. В трудные минуты мы вспоминаем о ней снова и снова.
Княжеский пир – это главное доказательство, что дух викингов был жив еще через много лет после смерти Рюрика и его соратников, и он всегда побеждал. Но постепенно восток вползал в славянские души. И они странно менялись.
Урок 14 Русские княгини А. Толстой «Песня о Гаральде и Елизавете»
Наши летописи и учебники истории ставили только отрывочные записи о том, что творилось в нашем мире во времена Олега Вещего, Владимира Святого и Ярослава Мудрого, тем интереснее для нас те литературные произведения, которые позволяют нас открыть те страницы истории. Мы знаем о том, что у Ярослава Мудрого было три дочери: Анна, Анастасия и Елизавета, все они стали королевами, их изображение осталось на стенах софийского собора, неведомый художник запечатлел их для нас. И самой интересной для поэтов оказалась история норвежского принца Гаральда, изгнанного из своего мира и оказавшегося на службе у русского князя Ярослава. Ходили легенды о его любви к дочери князя Елизавете, но он получил отказ великого князя, который не отдавал дочь изгнаннику. И тогда отправился викинг в военный поход, чтобы завоевать весь мир.
Именно об этом и рассказывает в своей балладе А. Толстой:
Гаральд в боевое садится седло,
Покинул он Киев державный,
Вздыхает дорогою он тяжело:
«Звезда ты моя, Ярославна»
Мы знаем, что викинги были не только отважными воинами, они были еще и поэтами, и обессмертили своих любимых в сагах и песнях, потому по всему миру, где побывал Гаральд, звучало имя киевской княжны, ради которой он и совершал все свои подвиги. Он успел побывать в Мессине, в Генуе, а в Афинах, на лапе каменного льва, он мечом высек свое имя,
Летает он по морю сизым орлом,
Он чайкою в битвах пирует,
Трещат корабли под его топором-
По Киеву сердце тоскует.
И любовная история перемешана с боевой. Но и в самых дальних походах он помнит о дочери Ярослава. Любовь гордой княжны бросает его в самые невероятные страны и схватки, и он готов приблизить время их встречи. И вернувшись к Ярославу, викинг держит перед ним свою победную речь:
Я, княже, уехал, любовь не стяжав,
Уехал безвестный и бедный,
Но нынче к тебе, государь Ярослав,
Вернулся во славе победной.
И не было больше повода у великого князя, чтобы отказать герою и будущему королю. Вместе с Елизаветой они отправились в Норвегию, которая радостно встречала прославленного героя:
В ладьях отовсюду к шатрам парчовым
Причалили вечные скальды
И славят на арфах, один за другим,
Возврат удалого Гаральда.
Странная гордость возникает за воина и короля, еще и потому что в жилах Рюриковичей текла кровь викингов, и жены русских князей и Ярослава Мудрого были из этих земель, а потому Елизавета просто вернулась в мир своей матери:
В цареградском наряде, в короне златой,
С ним рядом сидит Ярославна.
И мы слышим слова молодого короля, в такой торжественный момент к ней обращенные, они исполнены гордости и величия.
И все, чем я бранной обязан судьбе, —
Все то я добыл лишь на вено тебе,
Звезда ты моя, Ярославна.
И остается только понять, что заставило нас навсегда позабыть эту удивительную историю, когда слава гремела, не было рабства и бед, видно историкам с татарскими корнями не хотелось признавать, как Змею Тугарину, что для Руси и это было реальностью. Но дальнейшую судьбу короля Гаральда мы узнали из второй баллады А. Толстого, которая называется «Три побоища». Викинги считали позорным умирать дома на соломе, только смерть в сражении имела для них значение. К тому времени в Киеве княжил брат Елизаветы, сын Ярослава Мудрого Изяслав. И страшное извести долетело до Киевских стен, что норвежский король со своей дружиной отправился в Саксонию:
На Саксов готовятся плыть корабли,
Варяжскими гриднями полны.
И на этот раз Ярославна снова провожает в последний поход своего мужа, она уже знает о том, что он не возвратиться назад:
Глядит, как уходят в туман паруса,
С Гаральдовой силою ратной,
И плачет, и рвет на себе волоса,
И кличет Гаральда обратно.
Но он отправляется в Европу, сражается так же отважно, как в юности своей, но судьба его уже решена, и одна из вражеских стрел настигает его:
Копнами разил он тела на тела,
Кровь до моря с поля струилась,
Пока, провизжав, не примчалась стрела,
И в горло его не вонзилась.
И подобно тому, как плачет о муже своем Ярославна в «Слове о полку Игореве», так же зовет своего князя и оплакивает его и Елизавета Ярославна, королева Норвегии:
О горе! О горе! Зачем я жива,
Коль сгинул Гаральд мой державный!
Так из двух баллад А. Толстого мы узнаем о жизни и судьбе норвежского конунга Гаральда, ставшего зятем великого русского князя Ярослава, и умножавшего и богатства и славу русской земли.
Мы не должны забывать их славных побед и удивительных судеб, и хорошо, что русские поэты помогают нам воскресить в памяти дела давно минувших дней
Д. САМОЙЛОВ АННА ЯРОСЛАВНА
Мы уже знаем историю о жизни и судьбе средней дочери князя Ярослава Елизавета, ставшей королевой Норвегии.
Старшая его дочь Анна стала королевой Франции. И хотя жениха своего она никогда не видела, и сама отправилась со слугами и приданным в далекую и бедную Францию, но и там не растерялась, и стала королевой. Вот и обратился к ней русский поэт в ХХ веке, представив себе, как все это могло происходить в далеком 12 веке, укрытом от нас пеленой времени:
Как тебе живется, королева Анна,
В той земле, во Франции чужой,
Неужели от родного стана
Отлепилась ты душой?
Страшно даже представить себе те расстояния, которые должна была проделать юная девушка, те опасности, которые могли встретиться ей на пути. Да и уровень жизни был разным. Известно, что русские княжны были обучены грамоте, в то время как король франков не умел ни читать, ни писать. Она знала несколько языков, и понимала его речь. И все это делал русский князь ради того, чтобы усмирить свирепые войны, усилить собственные земли, и какой-то срок ему это еще удавалось. Но, наверное, ей снился по ночам во французской глуши родной Киев:
Как живется, Анна Ярославна,
В теплых странах? А у нас зима.
В Киеве у нас настолько славно.
Храмы убраны и терема.
Два мира и две культуры должны были стать родственны. И не могла знать королева Анна, о том, что через много веков, в веке 18 и 19 именно французская культура и язык станет вторым, а для русского дворянства и первым языком. В мире происходят порой странные перемены, и последние русские дворяне в начале ХХ века именно во Франции найдут свой приют, спасаясь от кошмара революции, и там они будут стараться сохранить русскую литературу и культуру. Но мы с вами должны пока заглянуть в неведомые дали, когда она была первой из русских, и может быть единственной княжной, которой еще придется после смерти мужа править этой страной.
И за что там герцоги воюют?
И о чем пекутся короли?
Елизавета уезжала вместе с человеком, которого она хорошо знала, в мир из которого пришла ее мать, Анна отправлялась в неизвестность, к чужому человеку, в совсем чужой мир. Потому так и заботиться и тревожится за нее русский поэт: