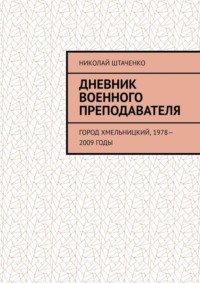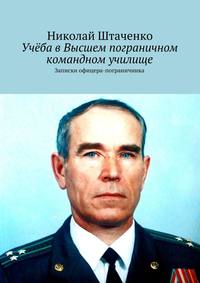Полная версия
На службе двух государств. Записки офицера-пограничника
Оставшийся в наследство от брата Толи галстук, быстро износился и через пару лет пришел в негодность. Обучаясь в 5-м классе, я опять остался без галстука. У родителей я денег на галстук не просил, зная, что нет денег. Так и продолжал ходить в школу без галстука. И опять попадался на глаза директору. Директор школы опять меня отсылал домой за галстуком. Так как галстука у меня дома не было, то до окончания всех уроков приходилось просиживать в уличном туалете для учеников, а затем идти за своей сумкой в класс. Таким образом, я мог в течение целой недели не бывать на уроках, пока, наконец, мне не купили галстук. Поэтому, одной из причин, почему я так отстал в учебе в 5-м классе, наряду с пропусками уроков из-за моих болезней, – это были и пропуски занятий, повязанные с отсутствием галстука.
Так как я пошел учиться не со своими сверстниками-одногодками, то я не напрягался и решил повторить учебу опять в пятом классе, но уже со своими одногодками. Так оно и случилось.
Вспоминая учебу в начальных классах, могу сказать, что были и яркие проблески в учебе. Иногда учительница ставила меня всем в пример. Так было, помню, в 3-м классе, когда я блестяще рассказал на уроке украинской литературы биографию Тараса Григорьевича Шевченко. С тех пор я до сих запомнил дату рождения этого поэта: 9 марта 1814 года. Иногда, учительница хвалила за успехи и по другим предметам.
Начиная с 7-ми лет, я приобщался к различным домашним работам, особенно во время летних каникул. По своим силам и возможностям помогал родителям. Так, например, летом мне мама поручала носить обеды отцу, работавшему в поле.
Вспоминаю, как после окончания 1-го класса (а это было в 1954 году), я почти ежедневно носил обеды отцу. Он работал тогда летом на сенокосилке, запряженной двумя волами. Косил отец люцерну далеко за совхозным током. Из дому туда идти было километров пять. Мама в горшок наливала борща, нарезала хлеб, наливала баночку компота или кислого молока и все это укладывала в узел; звала меня и говорила, чтоб я все это отнес отцу. Каждый день туда ходить одному мне уже и не хотелось.
Помню, как в один из летних дней она меня позвала и сказала, чтобы я нес отцу обед, но я начал отказываться, говоря: «Пусть идет к отцу кто-то другой». Она меня уговаривала, мотивируя тем, что Нина и Иван еще маленькие, а Толя выпасает коз в посадке. В порядке поощрения мама предложила мне: «Коля, вот на тебе один рубль и что-то себе купишь, а нести обед отцу, кроме тебя, сейчас некому, так что, давай, сегодня сходи ты». Я взял этот рубль, спрятал в свою фуражку, одел ее на голову, взял узелок и пошел к отцу. Шел знакомыми тропинками через поля, вдоль посадок и таким образом приходил к отцу, принося ему обед. Отец останавливал волов, делал перерыв и садился обедать. Пообедавши, отец садился в седло сенокосилки, брал меня на руки, погонял волов и начинал косить люцерну; таким образом, я с ним на сенокосилке проезжал один большой круг. Затем я возвращался домой; шел домой больше часа. Помню, как, придя с поля домой, в тот день, я решил возвратить этот рубль маме, и возвращая его маме, я сказал: «Мама, возьми этот рубль назад, пусть остается он на хлеб».
А еще в летнее время, после окончания 2-го, 3-го и 4-го классов, я ходил встречать нашу корову, когда она выпасалась в стаде. Это была уже моя обязанность в то время. Когда начинало садиться солнышко, я выдвигался за коровой до аэродрома, где выпасалась череда. Маршрут выдвижения был таков: из дому шел на большак (дорога на Мишурин Рог), по этой дороге доходил до акациевой посадки (это от нашей улицы Степной метров 500—600), а затем по полевой дороге, вдоль посадки, – шел до ее окончания (а это еще километра два). Таким образом, я доходил до аэродрома, – и солнце на западе уже почти касалось самой земли. Иногда приходилось на краю аэродрома немного посидеть и подождать, когда пастухи отпустят коров. Я встречал нашу корову и гнал ее домой. Часто я ходил за коровой с улицы не один, другие хлопцы тоже ходили встречать своих коров. Но я любил ходить за коровой совместно с дедом Сидором Святодухом, который проживал через две хаты от нас. Ему тогда было 75 или 78 лет. Я любил с ним ходить и слушать его рассказы о старине.
Из его рассказов я узнал, что после упразднения крепостного права, началась перепись крестьян. А тогда крестьяне имели только имена, а перепись нужно было осуществлять по фамилиям. Перепись осуществляли паны, и фамилии сами себе крестьяне выбирали, а кто затруднялся, то пан сам определял фамилию. Аналогично, и нашу фамилию, Штаченко, как рассказывал нам когда-то отец, тоже определил пан на Кировоградщине. Пан спросил моего прадеда: «Как твоя фамилия?» Он отвечал, что нет фамилии. Тогда пан записал в тетрадь и сказал: «Теперь твоя фамилия – Штаченко».
Фамилия звучит как украинская, но все выходцы по линии моего отца когда-то принадлежали к тюркам, – смуглые телами, черноглазые и черноволосые. Так и у моего отца, когда был молодой, так волосы были по цвету, как смола, и глаза были черные. Я видел свою тетку Нину, так она смуглолицая, черноглазая и с черными волосами на голове. Таков мой старший брат Владимир и старшая сестра Люда. У меня глаза голубые, как у мамы.
Дед Святодух мне рассказывал, как жили люди при панах. От него я услышал о нашей Лиховке. Оказывается, в долине, не далеко от речки Вирка, жил пан Лихач. Так вот, паны Лихачи жили там давно, а их предок, – какой-то вольный казак, – и в честь первого их предка наше село получило название Лиховка. Со временем оно разрослось и превратилось в поселок городского типа и стало районным центром.
Купаясь летом в речке Вирка и возвращаясь домой, я с ребятами часто заходил на развалины панского дома, где когда-то проживали паны Лихачи. Там оставался только один фундамент от дома папа Лихача. А в Лоринской долине когда-то, до революции 1917 года, жил пан Лорин. Когда мы ходили купаться на озеро Виницкое, под Ганевкой, то всегда проходили мимо развалин этого панского дома. Там то же оставался только один каменный фундамент.
В послевоенное время (в 50-х годах), бегая по совхозным полям и посадкам, мы, малые пацаны, часто натыкались на подарочки, оставленные прошедшей войной. Это были и мины для минометов, и выстрелы для пушек и гаубиц в полном снаряжении, и валялись по посадкам отдельные снаряды, винтовочные и автоматные патроны и другое. Ребята постарше нам говорили, что эти «штуки» трогать нельзя. Но интерес брал свое. Отдельные пацаны брали и разбирали патроны, кидали их в огонь, находили и разбирали ручные гранаты.
Помню, как обучаясь во 2-м или 3-м классе, мы всем классом ходили на похороны троих, таких же как мы, ребят из 5-й школы. Оказывается, они тогда нашли снаряд и один из учеников начал молотком его разбивать. Вследствие чего произошел взрыв и все трое погибли.
Однажды, мой 13-ти летний старший брат, Анатолий, его одногодок – Иван Драбина, я и Петя Стюпан пошли по мишуринрогской дороге в степь за травой. И в километре от нашей улицы, справа на обочине дороги, возле кустов, нашли унитарный выстрел (с гильзой и снарядом) для 152 мм гаубицы-пушки. Мой старший брат взял его в руки и направился к телеграфному столбу. Иван Драбина мне и Пете сказал, чтобы мы легли на обочине дороги, под кюветом, и лежали не выглядывая. Мы так и сделали, но я частенько подымал голову и наблюдал, что делает мой старший брат. Он с этим боевым изделием для пушки подошел к столбу и начал бить о столб, чтоб расслабить соединение и вытащить из гильзы снаряд. Минут 20 расшатывал, ударяя по деревянному столбу. Расслабив, таким образом, соединение, мой брат вытащил снаряд с гильзы. В гильзе находился пороховой заряд в мешочке; его оттуда извлекли, забрали с собой, а пустую гильзу и снаряд оставили у столба. Этот порох хорошо горел при зажигании его спичками – вот для этой цели и разбирали хлопцы унитарный выстрел. Да, опасность была велика – ведь на самом конце снаряда находился взрыватель, и стоило Анатолию этим взрывателем попасть по столбу, – то не миновать бы взрыву. Но как-то пронесло.
В дошкольные годы, и когда я учился в начальных классах, тогда зимы были очень холодные. Окна в нашей хате были одинарные и от мороза все стекла были замерзшие; чтобы увидеть, что делается на улице, нам, малышам, приходилось долго дышать на стекла окон, чтобы растаяло смотровое колечко, – тогда я видел, что делается на улице, сколько выпало снега. А в хате было прохладно, тогда углем мы не топили, – ведь его надо было привезти с железнодорожной станции, а это далеко и привезти было не на чем, так как в совхозе было три автомашины, да еще нужны были деньги на уголь.
Жили мы тогда в условиях натурального хозяйства: по силе возможности сами все производили и сами же все потребляли. Для обогрева хаты в зимнее время частенько использовали солому, сухие стебли кукурузы и подсолнухи. Бывало, вечером в плите жгли определенное время солому до тех пор, пока не нагревалась груба. Затем топку прекращали и ложились все спать, а к утру было уже достаточно холодно в хате. Когда были дрова, то топили дровами, но это было слишком роскошно – проводить топку дровами – они быстро заканчивались. Поэтому мои родители дрова использовали для растопки плиты или печи.
Основным материалом для обогрева зимой у нас являлся «домашний уголь», произведенный из коровьего навоза.
Всю осень, зиму и весну навоз из-под коровы, после уборки ее стойла, складировали в кучу в 5 метрах от сарая. И к окончанию весны накапливалась полутораметровая гора. Этот навоз собирался и выкидывался на кучу вместе с подстилочной соломой. А летом, где-то в июне или июле, собирались все взрослые члены семьи и начинали делать с этого навоза большие брикеты и раскладывать по всему двору для просушки. Для этого отец из досок сбивал деревянные формы (2—3 штуки) размером (30 на 40) см, и приступали к работе. Отец вилами, с кучи навоза, скидывал на площадку навоз, при необходимости его брызгали водой; босыми ногами месили, как густую глину, затем вилами заполняли деревянные формы этим навозом и утаптывали ногами. Далее, брали эту форму с навозом, несли в установленное место и выталкивали на травку, и этот брикет лежал и высыхал. Через неделю его переворачивали, и он лежал до тех пор, пока не становился полностью высохшим. Высохшие изделия заносили в сарай и складировали в штабель. Этот «домашний брикетный уголь» нас спасал от холода в зимнее время. Горел он действительно, как уголь, и горел продолжительное время. Топили им печь и пекли хлеб, горел он и в плите.
За дровами ходили в посадку, – она нас выручала. Дрова из акации, даже будучи сырыми, горели хорошо. Ходил в посадку за дровами 13-ти – 15-ти летний старший брат Анатолий. Он часто и меня брал с собой. Шел он в посадку, когда становилось совсем темно на улице, чтоб никто из соседей не видел. Мне тогда было от 7-ми до 10-ти лет и ходить в посадку с Анатолием не хотелось. Но он тогда говорил: «Пошли со мной, хоть топор понесешь и за дорогой у посадки понаблюдаешь, когда я буду рубить дерево». Посадка находилась от нашей улицы в 800 метрах. К посадке мы шли напрямую, через колхозное вспаханное поле. Подойдя к посадке, Толя сразу искал подходящее дерево, а я выдвигался на метров 50 вперед, переходил посадку на другую сторону, где вдоль нее проходила полевая дорога, становился за удобным кустом и вел наблюдение в ту сторону, откуда мог появиться объездчик, то есть был в готовности предупредить брата, если вдруг будет ехать он на лошади. Я прослушивал местность, напрягал в темноте свои глаза и только слышал удары топора. Брат, срубив дерево, занимался оголением его от веток. Закончив эту работу, он брал на плечо оголенный ствол дерева и нес домой, а я шел следом за ним и нес топор.
За соломой, к совхозной скирде в поле, то же ходил мой старший брат Анатолий, ведь он, начиная с 1953 года, оставался при родителях, будучи самым старшим из детей в их доме, не считая сестры Люды. Идя за соломой, он меня брал с собой. Солому скирдовали прямо на скошенном поле, но ходить к скирде за соломой было намного дальше, чем к посадке за дровами. Ходили за соломой к скирдам, находящимся в 1 – 1,5 км от нашего дома. Собирались и шли к скирде, когда на улице становилось совсем темно. Толя брал специальную сетку и металлическую клюшку для выдергивания соломы со скирды.
Что представляла хозяйская сетка?
Из вербы делались две дуги. Две палки из вербы, толщиною 3—4 см, сгибали дугой и на огне подогревали до тех пор, пока они переставали обратно разгибаться. Клали эти дуги на землю: одну – вправо, другую – влево, изогнутыми сторонами наружу, затем брали клубок льняной веревки, толщиной 4—5 мм и делали сетку с ячейками 15—20 см, привязывая их к деревянным дугам. К одной из дуг привязывали 2-х метровую веревку.
В темное время мы с Толей подходили к скирде соломы. Толя раскрывал и укладывал возле скирды сетку, брал металлическую клюшку, дергал солому и укладывал на сетку. Наложив в сетку громадную гору соломы, Толя брал конец веревки, пропускал через противоположную дугу сетки и приступал плотно утягивать. Я ему помогал. Солома в сетке оказывалась достаточно сжатой и уплотненной. Толя эту сетку с соломой брал на спину и нес домой, а я за ним шел следом и нес металлическую клюшку.
Солома эта использовалась для подстилки корове, стелили на пол в хате и топили плиту.
В 1956 году отпочковалась от нашего дома и сестра Люда: летом, мама повезла ее в г. Днепропетровск. Моя старшая сестра поступила учиться на штукатура в ГПТУ (строительное училище) и училась там один год.
После окончания строительного училища она осталась работать в г. Днепропетровске в одном из строительных управлений треста Днепротяжстрой.
В сентябре 1956 года моя младшая сестра, Нина, пошла в 1-й класс, а старший брат, Толя, закончил 7 классов, таким образом получил неполное среднее образование и пошел в совхоз выпасать стадо телят, – ему было только 14 лет. В этот же год, поздно осенью, он устроился работать скотником на совхозной ферме, где он, наравне со взрослыми, занимался уходом за молодняком лошадей. И работал там два или три года, когда не подошло время идти учиться на курсы шоферов.
Помню, как девяти-десятилетним пацаном, я ему тоже немного на этой ферме помогал. Даже частенько ночевал в его дежурке. В дежурной комнате была плита и даже печка, обогреваемая от плиты. Плиту отапливали тогда соломой и, когда вечером становилась теплая печь, я туда залазил и всю ночь спал. А Толя ночью почти не прилегал, – ходил и все проверял, как там у лошадей. Стояла в дежурке на столе керосиновая лампа. Вечером в дежурку приходили пожилые мужики с улицы: Моргун-старший, Остап Коновал и еще другие. И начинали они играть в дежурке в очко на деньги. А я лежал на печке и наблюдал за ними, за их игрой. Сидели они допоздна, до часов 24.00, или даже позже, а затем только расходились по своим домам.
Осенью 1956 года у нас впервые появился радиоприемник «Родина» на аккумуляторных батареях. Отец купил его у соседа. Вместе с соседом, Василием Настекой, отец установил проволочную антенну, длиной метров 15—20, сделали громоотвод. Мы первый раз, допоздна, точнее, до двух часов ночи, слушали передачи по радио. Тогда как раз был вооруженный конфликт в Египте, в районе Суэцкого канала. Помню, как диктор говорил, что на подбитом корабле погибли египетские женщины и дети.
А вскорости, централизовано, с радиоузла Лиховки провели на нашу улицу проводное радио (провод проложили по обочине улицы на глубине 1 м), и в нашей хате появился радиоприемник. Тогда можно было слушать последние известия, симфоническую и классическую музыку, песни. По этому радиоприемнику я впервые услышал прекрасный голос 10-ти – 12-ти летнего итальянского певца Робертино Лоретти.
До 5-го класса я ни разу не был в большом городе, не видел поездов. После окончания 4-го класса, летом 1957 года, мама повезла меня в г. Днепропетровск. До железнодорожной станции Вольные Хутора приехал я с мамой на кузове грузового автомобиля: в то время автобусы с Лиховки ходили очень редко – один раз в день. На станцию Вольные Хутора подошел поезд, впереди дымил паровоз, мы сели в вагон, и я понял, что такое поезд.
Приехавши в город, мы остановились у тети Маруси, которая являлась родной сестрой тети Оли – жены отцовского брата Ивана, которых уже не было в живых. Тетя Маруся с дядей Колей жили на ул. Матлаховской в одноэтажном домике на двух хозяев. У них, в то время, был сын Валентин, возрастом в 18 лет, проживала моя двоюродная сестра Женя – племянница тети Маруси, 1935 года рождения. Она училась в каком-то институте, а Валентин работал на заводе. Дядя Коля работал на заводе ДЗМО, был любитель голубей, – у него была целая голубятня с сотней разных голубей. Из домашней живности они завели десятка три гусят.
Дня через два моя мама уехала домой, а я согласился остаться и заниматься уходом за гусятами. Ходил и рвал на пустыре траву, приносил ее, резал на мелкие кусочки и потом давал гусятам. Они с удовольствием ее поедали. Так я ходил за травой для гусей каждый день. Будучи в гостях у тети Маруси, я подружился с соседскими пацанами, ростом они были такие как я, но годами младше. Я им говорил, что перешел в 5-й класс, – они мне не верили. Для убедительности я им на следующий день принес и показал свой табель успеваемости, который привез с собой с Лиховки, тогда они поверили. В гостях я впервые увидел и смотрел телевизор. Это был телевизор «Рекорд» первого выпуска с черно-белым изображением, размер экрана – 15 на 15 сантиметров.
Однажды Валентин, сын тети Маруси, собирался на рыбалку и меня с собой позвал. Поехали мы рыбачить на реку Днепр после обеда, там встретились с его друзьями с работы. Пробыли там целые сутки. Я был легко одет, бродил по воде, сильно перемерз ночью. Рыбачили с лодок. После возвращения с рыбалки я заболел и слег в постель с температурой. Тетя Маруся из-за этого сильно разволновалась. Как только я выздоровел, она сразу повезла меня домой в Лиховку. На вокзале, в г. Днепропетровске, я с тетей Марусей сел на поезд и доехали мы до станции Вольные Хутора, а оттуда опять на попутке и опять на кузове грузового автомобиля. Так и доехали до Лиховки. В общей сложности я пробыл в гостях целый месяц.
Итак, в сентябре 1957 года я пошел учиться в 5-й класс. Занятия в 5-м классе начинались с 08.00 часов утра, и было по 5—6 уроков каждый день. Вставать утром приходилось в 6 часов. Будил меня радиоприемник: передачи начинались в 06.00, как правило, – с гимна СССР. Как только заиграет гимн СССР, я вставал, а если не слышал, то мама будила, – она на ногах была с 5-ти часов утра, – умывался, кушал, одевался и выходил из дома где-то в 06.45, а в 07.45 я заходил уже в свой класс. Шел в школу, конечно, не один – с улицы нас собиралось по трое-четверо учеников.
В установленном месте мы договаривались встречаться по времени или, бывало, я заходил к кому-то, или ко мне кто-то заходил, – и мы вместе шли в школу. Поодиночке идти в школу было страшновато, так как, в зимнее время, было темно на улице. Со школы я возвращался с ребятами с нашей улицы, и к 15.00 часам приходил домой, сильно проголодавшись. После 4-го урока уже сильно хотелось кушать. Приходилось терпеть. Поэтому знания туго усваивались. После прибытия со школы, я обедал. После обеда мама заставляла выполнить какую-то работу по дому: поухаживать за кроликами, почистить стойло у коровы, подстелить ей соломки, напоить ее водой, положить в ясли сена. Поэтому за выполнение домашних заданий я садился не раньше 17—18 часов. С 5-го по 8-й класс мне приходилось готовиться к урокам по вечерам, используя керосиновую лампу, – так как электричество к нам провели только в 1963 году. То есть после окончания мной 8-ми классов.
Обучаясь в 5-м классе, мне приходилось много пропускать занятий по целым дням: зимой простывал и болел; директор часто отсылал домой за галстуком, которого у меня не было.
Из-за этих причин в 5-м классе я превратился в неуспевающего ученика. Я тогда запустил немецкий язык и другие предметы, догонять было трудно, и я стал отстающим учеником в классе. Чтобы самому догнать пропущенное, изучая по учебникам, – так у меня же половины учебников не было в наличии. Вот у меня и зародилась мысль: повторить учебу в 5-м классе по новой, со своими одногодками.
В 1957 году мой отец ушел с совхоза им. Кутузова и перешел работать в колхоз им. Суворова. Стал работать за трудодни. Преимущество работы в колхозе, по сравнению с работой в совхозе, заключалось в том, что можно было выписать за трудодни какую-то живность: кабанчика, овечку или теленка, а в совхозе этого нельзя было делать, – не разрешали, потому что там работа оплачивалась только деньгами, а в колхозе, – натурой: зерном и живностью. В совхозе отец получал мизерную зарплату: 100 рублей аванса и 100 рублей получки (курс рубля до 1961 года). За 100 рублей, мне или кому-то из братьев, родители покупали хлопчатобумажный костюмчик, которого еле хватало на годичный школьный период обучения, и еще около 100 рублей надо было, чтобы купить кому-то кирзовые сапожки или ботинки. А детей у моих родителей было восемь душ, – каждого надо было во что-то одеть и обуть.
На фотоснимке 7 ноября 1956 года старший брат Владимир – студент 4-го курса Днепропетровского индустриального техникума – держит маленького брата Ивана. Штаченко Н. Н. – ученик 4-го класса, стоит рядом со своими братьями. В июне 1957 года мой старший брат Владимир закончил индустриальный техникум и был направлен работать в г. Запорожье на металлургический завод «Запорожсталь». Поработав два-три месяца на заводе, Володя приезжал в отпуск в Лиховку. С первых своих зарплат он накупил нам всем подарки. Помню и мне он привез подарок – клетчатую рубашку. В конце октября 1957 г. (на 24 или 25 октября) он получил повестку в армию и приехал в Лиховку. Мои родители организовали ему проводы. Он хоть был и моложе, на 2 года, старшего брата Виктора, но призывался в армию в один год с ним.
Он служил всего три года в морской авиации, в метеорологической службе, в г. Геленджик, Краснодарского края.
А буквально через три недели после проводов в армию брата Володи, приехал в Лиховку самый старший мой брат Виктор, то же, получив повестку в Армию. И 11 ноября 1957 года мои родители так же организовали проводы его в армию.
Почему его призвали в армию позже младшего брата Владимира? Он два года учился в железнодорожном ремесленном училище в Днепропетровске, которое окончил в 1954 году и надо было ровно 3 года отрабатывать. Поэтому его призвали в Морфлот только в 1957 году в возрасте 22-х лет. И загудел он в Морфлот на все четыре года. Сначала он учился с полгода в г. Пинске на моториста корабля, а затем его направили служить в Черноморском флоте. В последний год он служил в г. Измаиле.
В августе 1958 года мои родители решили поехать на Кировоградщину в гости к родственникам моего отца. С собой они взяли троих детей: Нину, Ивана и Валю. Я ехать не захотел, остался с братом Анатолием на хозяйстве.
У нас была голубятня и много заводских голубей. Голубятню отец построил сам в 1952 году. Чтобы к голубям не залезли ни коты, ни куницы, отец построил голубятню на рельсе, которую забетонировал в земле. Наверху рельсы болтами привинтил металлическую крестовину и начал сооружать деревянный пол голубятни, затем боковые стены и, в последнюю очередь, крышу. Затем покрасил голубятню черной краской. Внутри на задней стенке отец, из фанеры, сделал с десяток мест для гнезд голубей. В голубятню можно было забраться только по массивной лестнице, которую я еле-еле подымал. За несколько лет у нас развелось много голубей. Я любил лазить к голубям и смотреть на них, как они воркуют; заглядывал в гнезда и играл с молодыми голубятами.
Отец развел много породистых голубей, – как тогда он их называл, – это были голуби «Николаевской» породы, были еще и «вертуны», которые при полетах вертелись через голову, делая обороты в 360 градусов. «Николаевские» голуби, – они не просто летали по прямой, когда их сгоняли, – они летали малыми кругами над голубятней и подымались все выше и выше, долетая до самых облаков, и, таким образом, под самыми облаками могли летать, будучи на одном месте по нескольку часов. В это время я любил наблюдать за их полетами. Простилал во дворе какое-то старое одеяло, ложился на спину и, лежа, наблюдал за полетом голубей, – а в глазах от них мерцали только маленькие точки. И так я мог лежать и часами наблюдать за их полетами, пока они медленно не начнут снижаться и не сядут на голубятню.
Помню, как мой отец приобрел у своего знакомого, тоже любителя голубей, красивую, черно-белую голубку, которую он, и все мы, называли «чайкой». Она была очень крупной голубкой. Приобрел ее отец поздней осенью. До весны она привыкала к нашей голубятне; на ней спаровался один из одиноких голубков, – и образовалась парочка.
Весной, в апреле месяце, отец открыл голубятню впервые после зимовки, то есть выпустил голубей. Они все вышли с голубятни, повылезали на ее крышу и начали греться на солнышке. Наблюдая за голубями, я увидел, что они кого-то испугались и взлетели, поднялись вверх на метров 200 и начали делать круги над голубятней, и тут, где ни возьмись, со стороны посадки, налетел сокол-сапсан. Все наши голуби с большой скоростью полетели вроссыпь, а наша «чайка», оторвавшись от остальной группы голубей, быстро полетела в сторону зеленого, озимого колхозного поля за нашим огородом; смотрим с отцом, – сокол-сапсан устремился за ней. «Ну, все, – сказал отец, – теперь он ее унесет». Я побежал через свой огород к озимому полю и увидел, как сокол-сапсан нанес удар нашей «чайке», – с нее посыпалось только перья вниз. Но наша «чайка» оказалась тяжела, – он ее не мог унести, а медленно, держа ее в когтях, опустился вниз и сел на зеленое поле. Мне оставалось бежать к ним метров 200, и я начал сильно кричать, отвлекая сокола, чтобы он ее не убил ударом своего клева по голове. Подбежав к ним поближе и, не добежав 30 метров, я увидел, как сокол-сапсан, бросив свою жертву, поднялся и улетел прочь. Я с расстояния увидел, что голубка наша живая, – сидит и водит своей головкой. Когда я приблизился к ней на метров 8—10, она взлетела и полетела к нам домой. Так что, благодаря моей реакции и быстрой скорости, я спас нашу голубку-чайку от гибели.